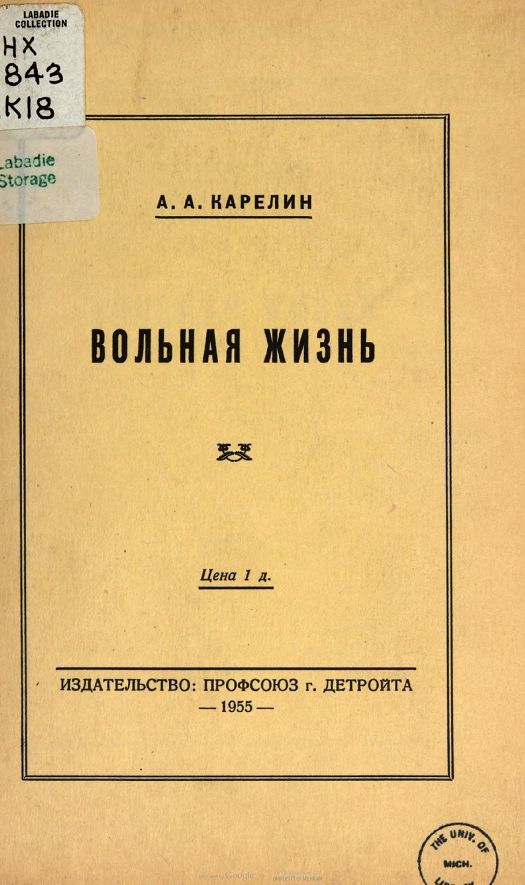| |||
Аполлон Андреевич Карелин От издательства Появлением в свет настоящей книги А. А. Карелина “Вольная Жизнь” мы обязаны покойному т. Тимофею Курс-мецову, родившемуся в 1887 г. в деревне Клубки, Саратовской губ., и умершему 5 ноября 1953 г. в городе Детройте. В 1912 году Тимофей Курсмецов в поисках лучшей жизни оставил родные места и уехал в далекую Америку. Сначала он поселился в г. Акроне, Охайо, где нашел себе работу на одной из фабрик, а затем, спустя несколько лет, переселился в Детройт и стал членом одного из отделов Союза Русских Рабочих, которых во время Русской Революции 1917 года насчитывалось шесть в Детройте и окрестностях. Все они были многолюдны и часто устраивали лекции и доклады на разные социальные и политические темы, а также и предприятия культурно-просветительного характера. Курсмецов всегда проявлял большой интерес к предприятиям и по мере своих сил и способностей помогал их успеху. Он стал активным и преданным работником СРР и привлек много новых членов. Начавшиеся в ноябре 1919 года Палмеровские погромы обрушились главным образом на Союз Русских Рабочих, его организации были разгромлены и культурно-просветительная деятельность их ослаблена. Однако уцелевшие члены СРР, глубоко веря в правоту своих анархических идей и стремлений, скоро создали новые организации и еще с большей энергией и преданностью продолжали свою просветительную работу. Одним из этих преданных членов, участвовавших в анархическом движении в течение десятков лет, был Тимофей Курсмецов. При выпуске “Вольной Жизни” А. А. Карелина Издательство руководилось тремя соображениями: 1) Для русской анархической печати и для зарождения русского анархического движения в Америке А. А. Карелин сделал гораздо больше, чем многие предполагают, 2) На книжном рынке отсутствуют произведения А. А. Карелина, 3) Его популярным изложением идей анархизма. Доход от продажи этой книги предназначается в фонд издания анархической литературы. Личность А. А. Карелина, его жизнь и деятельность обрисованы в статьях Е. 3. Моравского, А. А. Солоновича и П. И. Н., посвященных его памяти. Профсоюз г. Детройта 1954 г. Тимофей Курсмецов Аполлон Андреевич Карелин Имя Аполлона Андреевича Карелина известно каждому русскому культурному рабочему в Америке. Лично его знали немногие; знали только те, кому пришлось с ним встретиться в России в годы революции. Но несмотря на это, А. А. Карелин был близок и дорог всем русским культурным рабочим. Они знали его по многим книгам и брошюрам, по многочисленным газетным и журнальным статьям. На мою долю выпало счастье прожить почти семь лет вместе с А. А. Карелиным. Я не знаю ни его детства, ни юности и не могу поэтому описать всю жизнь этого милого старика, с вечно юной и бурной душою. Хотя я знал его очень близко, но я никогда не спрашивал его об его личной жизни. Не люблю, когда меня спрашивают иногда об этом, не хочу спрашивать об этом и других. Для многих людей личная жизнь является святыней. Всякое прикосновение к этой святыне может вызвать в душе человека только одну лишь боль. Родился Аполлон Андреевич в 1863 году в Петербурге. Местом постоянного жительства Карелиных был Нижний Новгород. Отец его, свободный художник, принадлежал к роду аристократическому. Мать А. А. была недалекой родственницей поэта Лермонтова. Дом Карелиных сохранился в Нижном Новгороде до сих пор и превращен сейчас большевиками в музей. Учился А. А. в нижегородской гимназии. В 1888 году он выдержал экзамен в Казанском университете на кандидата юридических наук. Литературная деятельность А. А. началась в 1887 году, когда он напечатал в “Юридическом Вестнике” статью “Отхожие и кабальные рабочие” под псевдонимом Макаренко. После этого его статьи по юридическим и экономическим вопросам появлялись очень часто в "Русской Мысли,” "Северном Вестнике,” “Экономическом Журнале” и других изданиях. В 1893 году была напечатана в Петербурге его книга “Общинное владение в России”; через год появилась его вторая книга “Краткое изложение политической экономии” В революционном движении он принял участие, будучи еще юношей. Был арестован по делу убийства Александра II, но благодаря связям родителей был освобожден из Петропавловской крепости. За свою революционную работу (тогда он не был анархистом) был несколько раз в ссылке. После революции 1905 года он уезжает во Францию, где и живет до 1917 года. Там же сложились окончательно его анархические взгляды. Когда же произошла февральская революция, А. А. прощается с “милым Парижем” и возвращается в Россию, где с юношеским энтузиазмом работает в анархическом движении. Читает лекции, доклады, пишет для газет. Особенно много писал он для петроградского “Буревестника,” пока эта газета не была захвачена вооруженными бандитами, назвавшимися анархистами. Прожил он в Петрограде два-три месяца, но его знают уже все рабочие. Все его зовут дедушкой, все его просят прочесть лекцию. Я познакомился с А. А. Карелиным недели через две после его приезда из Парижа. Задолго до этого я переписывался с ним. Я получал от него обычно небольшие деловые письма и он казался почему-то мне очень замкнутым и молчаливым. Но с первого же нашего знакомства я полюбил его всем своим сердцем и душою. Его красивое аристократическое лицо, с длинною седою бородою, никогда не было мрачным. Хотя в это же время всем приходилось переносить всевозможные экономические лишения, но они его никогда не огорчали. Он жил революцией. Жил верой в лучшее будущее. Весною 1918 года я переехал в Москву, а через несколько недель приехал туда и А. А. Здесь продолжалась та же работа. Здесь же А. А. некоторое время верил (как и большинство русских анархистов), что октябрьская революция является началом революции социальной. Но проходит несколько месяцев и эти иллюзии начинают разсеиваться. Появляется “красный террор,” начинается преследование большевиками социалистов и анархистов, и А. А. заявляет, что революция разгромлена большевиками. В Москве вокруг Карелина группировалось много анархистов. В его комнате можно было встретить рабочих, приехавших в Москву крестьян, студентов и студенток, людей из аристократического мира, профессоров и многих литераторов. Карелин умел говорить с каждым человеком. Эти люди придерживались очень часто самых разнообразных мнений, но все любили этого милого старика. Любили его, может быть, за то, что он уважал мнение всякого человека. Он никогда не спорил. В это же время А. А. много писал. Писал статьи, брошюры и вещи серьезные. В 1918 году в Москве была напечатана его серьезная работа “Государство и Анархисты” Было напечатано также несколько мелких брошюр. Много работал он также над книгой о парламентском государстве и над большим курсом “Политической Экономии ” Трудно сказать, конечно, когда увидит свет эта необычайно ценная и большая работа (около 600 страниц) по политической экономии. Во время самого разгара “красного террора” он написал небольшую работу против смертной казни. Эта работа (изданная отдельной брошюрой в Америке) является одной из лучших работ по этому вопросу. Написаны им также биография Бакунина и “История Первого Интернационала” За все же время своей литературной деятельности А. А. написал очень много. В последнее время он писал и художественные вещи. Он написал около десятка драм и диалогов. Некоторые из них (“Сцены из жизни Великого Новгорода” “Поморцы” “Заря Христианства” “Он ли это?” и “Атлантида”), последние печатались в нью-йоркском “Рассвете.” Все эти драмы (особенно “Заря Христианства/’ “Он ли это?” и “Атлантида”) очень ценны тем, что в них отражается подлинная душа А. А. У него была своя вера, был у него свой Бог. Об этой новой религии, об этом Великом и Непостижимом Боге и говорит он в этих своеобразных мистериях. Его духовный облик был обликом Рыцаря Духа. Е. 3. Моравский Памяти А. А. Карелина 20 марта 1926 года скончался от кровоизлияния в мозг один Ио старейших русских революционеров-анархистов — Аполлон Андреевич Карелин. Его первый арест произошел в марте 1881 года, когда ему было 18 лет и с тех пор вся его жизнь представляла из себя цепь непрерывных гонений со стороны русского правительства. “Опять этот Карелин попался,” сказал Александр III, когда ему доложили об одном из очередных арестов Карелина. Тюрьма и ссылка, ссылка и тюрьма сменяются в его жизни, по выражению Бьерклюнда (“Бранд” — “Русский ревелюционер”), как “ночь сменяет день,” вплоть до момента, когда он, спасаясь от виселицы, бежит в 1905 году за границу и поселяется в Париже. Только революция 1917 года дала ему возможность вновь вернуться в Россию, но и в эмиграции, и, впоследствии, в России он все так же непреклонно ведет борьбу за идеалы анархического коммунизма. Вся деятельность Карелина органически связана с историей русского освободительного движения и в нем он представляет то коренное русское, что, поднимаясь до горизонтов мирового освобождения, роднит его с такими титанами, как Бакунин, Толстой и Кропоткин. Роковая судьба русского народа была в том, что те, кто являлись подлинными носителями идеалов, истинными выразителями духа ее народа, силою условий ее исторического развития отбрасывались от ее жизни и уходили на арену общечеловеческого творчества, унося вместе с тем и те конкретные возможности, которые позволили бы им воздействовать и на общественное строительство родной страны. А вместо них приходили в Россию иностранные завоеватели — сперва в форме диких орд кочевников, а затем в виде германских влияний, начиная от немецких династий вплоть до немецкого социализма, глубоко чуждого подлинно русской народной самобытности. Неоднократно Карелин подчеркивал, что он — русский, что ему дорога и близка русская культура... Он полагал, что общечеловеческое должно выростать из народной души органически, что в семью народов земного шара все народы должны войти, как братья, каждый со своими особенностями и характером. Он полагал, что интернационализм, понятый в его глубоком значении, нисколько не противоречит этому, но служит лишь увенчанием братского союза народов, и всю свою жизнь, все силы своей могучей и прекрасной индивидуальности он отдал на служение народным массам и прежде всего массам России. “Я и общество — едины,” пишет он (“Буревестник” № 23, 9-XII. 1917 г. “Ответ анархисту-индивидуалисту”) “хотя, конечно, я противопоставлю себя обществу, в которое ворвалась и которым правит принудительная власть. “Народ — это ‘род на род/ а в число членов одного из этих родов вхожу и я. Всякая хула на народ это — жалкое, бледное, бессильное, несмотря на звон ядовитых фраз, самооправдание грабителя — скупца, не желающего отдать народу, многим родам все то, что этот народ позволил взять у себя. Дело не только в том, что я пользуюсь продуктами народного труда, что все меня окружающие предметы потрелбения сделаны трудом народа. Дело в более важном. Все, что я могу помыслить, сказать, сделать, все это, — в свете сияния высшего знания-правды, все это — не мое, все это слабый отблеск отблеском блестящей народной, коллективной, человеческой мысли. “Как Антей, задыхавшийся в тисках железных лап Геркулеса, я — бессилие, задыхающееся в пошлости субъективизма и моего маленького ‘я.’ Но если я, как Антей, коснусь земли (а земля и народ у нас — русских — иной раз синонимы, ибо ‘встанет земля/ значит ‘встанет народ’) в этом случае я — титан, которому не надо взбрасывать Пелион на Оссу для того, чтобы пойти войной на Олимп. Я и Пелион, и Оссу смогу тогда, опираясь на народ, бросить на сонмище пирующих на маленьком Олимпе маленьких богов. Брошу их в пусто горделиьых насильников, в жалких, слабых индивидуумов, в парах хмельной амброзии горделивого помешательства, нашедших себе оправдание и точку опоры. “И сбросят с нелепых тронов, брошенные мной и народом громады, всех врагов народа, как тех, кто угнетает и эксплуатирует его, так и тех, кто ругает и презирает его/’ Личность и общество — две стороны одного и того же явления, растущие одновременно в органическом взаимодействии. Но властнические институты государства врываются в спокойное развитие народа и вносят в него разложение и гибель. Подобно язве на теле, власть коверкает здоровый организм и вызывает в нем злокачественные опухоли и нарывы... Заболевает общество, заболевает личность и создается сумасшедший дом, знающий только насилие, губящий в зародыше все великое и прекрасное, что может расцвести только под сияющим солнцем свободы. “Без свободы, — говорит он, — только ночные хищники — гиены и шакалы, — роются среди трупов во тьме насилия. “Государство, — пишет он, — это антагонистическое... общество живущих на какой-либо территории людей, часть которых — правители — обладают самостоятельно принудительной властью, а другая часть — подвластные — не имеют ее. В этом обществе правители принимают те или иные решения, заставляют подвластных угрозами насилий и мучений подчиняться таким решениям и мучают или приказывают мучить неповинующихся. “Государство,—это известным образом для целей эксплуатации и угнетения прекрасно организованные люди, угнетающие и эксплуатирующие плохо организованных трудящихся людей.’* (“Государство и Анархисты/' М. 1918 г.) В своем анархизме Карелин остался на всю жизнь верен заветам Бакунинского народничества 70-х годов и в этом отношении пошел так далеко, что как бы совершенно слился с народной массой, создав богатую анархическую литера-туру — безымянную, написанную простым народным слогом, понятную для тех широких народных массивов, которым даже слог Кропоткина непосилен своей сложностью. Громадное, оставшееся после него наследство приходится теперь собирать с большим трудом, ибо он почти никогда не подписывался своей фамилией, но или бесчисленными псевдонимами, или оставлял их без всякой подписи. Когда, однажды, Кропоткин стал ему указывать на прекрасно поставленный анархический ежемесячник в Нью Норке — “Голос Труда,” он не знал, что этот журнал редактировался из Парижа Карелиным с 1911 по 1914 год и что за это время в 24-х номерах его было помещено около 150 статей Карелина. Так же обстояло дело и во всех остальных случаях. И народ понимал его... За время его пребывания в России, после реэмиграции, он успел связаться с анархистами чуть не всей страны... К нему шли и старый и малый, крестянин и рабочий, профессор или агитатор, и каждый уходил удовлетворенным. Он вел колоссальную переписку, доходившую до 30 писем в день и ни одного письма он не оставил без ответа, несмотря на то, что у него не было личных секретарей и сам он был тяжело болен. Благодаря ему по России распространялась в громадных количествах анархическая литература и миллионы ее экземпляров сделали свое дело, может быть большее, чем это могли сделать все анархические митинги за все время революции. Вот как характеризует его Бьерк-люнд в уже цитированной статье: “...Практик и теоретик. Борец и мыслитель. Человек, который по своим действиям, по своей воле и уменью, стоит головой выше толпы. Высокого роста, мощный, широкоплечий человек. “На первый взгляд он кажется старым викингом и богатырем. Да, он воин и есть, он сделался врагом неправды, притеснения и угнетения за время своей богатой событиями и долгой жизни. С первого момента перед нами чувствуется знаток жизни и людей. В нем виден один из тех сильных, которые, не колеблясь, следовали изречению Нитше: ‘Где стоишь, копай лопатой. Не придавай значения крику пессимистов, что найдешь ад.’ “...Аполлон Андреевич Карелин имеет свой способ говорить о революции. Вообще он не говорит много. Напротив, он много и интенсивно работает. Он — истинный работник революции. Никем другим он не хочет быть и он делает свое дело основательно. Он не из тех, кого случайно выносят на занимаемый пост волны революции. Нет! Он бескорыстно и, не жалея себя, служил революции и работал для нее с юных лет. А. А. Карелин — один из самых ярких и самых лучших социалистов этого переворота. “...Он никогда, — продолжает Бьерклюнд (писано в 1918 г.), — не переставал быть революционером-практиком. Он никогда не отказывался от ответственной и важной работы в секретариатах и собраниях. Карелин — не теоретик белоручка, боящийся практических вопросов. “В его лице объединены практический революционер и мудрый теоретик. Он умеет точно выражаться и все его понимают. “Значение Карелина в русской революции нельзя оценить в достаточной степени. “В жизни Карелина было много романтического. Он был когда-то богат, как Крез, и в другое время беден, как Лазарь. Он вращался в самых разнообразных обществах. Род Карелиных находится в свойстве с Лермонтовыми.*' Добавим, что умер Карелин совершенным бедняком, но последней его подписью, сделанной накануне смерти, когда его рукой водил один из товарищей, была подпись пожертвования на Черный Крест. Всю жизнь свою, силу и знанье он отдал народу. Он обладал колоссальной эрудицией и почти не было вопроса, в котором бы он не мог разобраться, касалось ли это русской крестьянской общины и быта русской деревни, или относилось к вопросам философии, истории культуры, физики или даже медицины. Его специальностью была политическая экономия и после него остался громадный трех-томный курс политической экономии, который ему не удалось напечатать при жизни. Поражало его знание жизни и людей, его уменье правильно ориентироваться во всяких обстоятельствах, его способность находить верные пути, как в общественной, так и в личной жизни. Поэтому к нему обращались за разрешением вопросов о том, как быть с хозяйством, когда пала единственная корова у крестьянства и тот ждал ответа от А. А., какой тактики держаться по отношению к той или другой мере большевиков, к нему же обращались и с вопросом о женитьбе, о способе ведения защиты в данном уголовном процессе, одним словом, несмотря на то, что он был представителем современной городской культуры, он в то же время соединял в себе и глубокую патриархальность русской деревни, энергию молодости самой передовой культуры и мудрость тысячелетней старости вековых воспоминаний и быта. Живя в ссылке на севере, он близко сошелся с представителями русского сектанства, в частности с теми, которые принадлежали к “Поморскому Согласью,” и не только прослыл в некоторых из их кругов чуть не начетчиком, но и сумел найти у них своеобразные формы общественности — чисто анархические, которые дали ему ключ к разрешению ряда социальных проблем. Сюда относится само “согласие,” как единственная возможная форма юридического лица в анархическом праве — текучем и живом. Когда, вскоре после рождения А. А., семья Карелиных переехала из Петербурга в Нижний Новгород, они поселились в доме, который раньше принадлежал Николаю Гаврииловичу Чернышевскому. Книги, которые читал Карелин, когда ему было 18 лет, были изданиями русских эмигрантов — журналы “Вперед?9 и “Набат,” брошюры: “Хитрая Механика” “Храбрый Воин” “Сказка-Копейка” и другие произведения народников. Основная проблема Лаврова и Михайловского—проблема личности и общества,—решалась им, как проблема существенная, моральная, и здесь он имел свою особую точку зрения, которая не отрывала его от народных масс, как все же подчас это бывало у интеллигентов-народников, а, наоборот, органически связывала, как бы с самой почвой народного духа. Не все, что он считал правильным, смог он выразить в своих печатных трудах, часть осталась в рукописях, а еще большая и несравненно важнейшая развертывалась им в устных беседах с друзьями и здесь раскрывалась сокровищница его глубоких знаний и колоссального опыта. Многие из тех, кто бывал у него и мог воспринимать длительное воздействие его бесед, часто совершенно перевоспитывались и делались другими людьми. Когда он жил в эмиграции в Париже, неустанная работа кипела вокруг него, и как Россия, так и Америка испытывали ее влияние, ибо типография сорганизованной Карелиным “Федерации Вольных Общинников” выпускала массу анархической литературы, переправляемой через границы. И здесь он устраивает у себя нечто вроде семинариев, где учатся десятки товарищей, где воспитывается их революционная стойкость и уменье. Вообще надо заметить, что одним из свойств А. А. было его удивительное уменье находить работу, которую он вел всегда так, что как бы какой-то свет от нее оставался в массах, какой-то проблеск в возможный справедливый строй общества и притом так, что отдельные лица сами загорались желанием работы, а не только увлекались мечтами о прекрасном и недостижимом. Он зажигал всех, с кем сталкивался священным огнем борьбы за свободу, тем огнем, который так ярко пылал в нем самом и который в конце концов и сжег его самого. Когда он слышал о какой-нибудь несправедливости, его охватывало негодование и он сейчас же ставил вопрос о возможных конкретных формах борьбы против этой несправедливости и о помощи жертвам ее. Здесь для него не было никаких разделений и он помогал всем, кому мог, хотя бы за теми, кому он собирался помочь, числились какие угодно проступки. Между прочим, в Сибири, живя в Иркутске, он берет на себя защиту уголовных и приобретает себе громадную популярность, ведя иногда до 20 дел на день. Если он получал за защиту гонорар, он отдавал его целиком подзащитным, чтобы дать им возможность оправиться и начать новую жизнь. Он никогда никому не отказывал в помощи и потому, сын богатых родителей, сам — всю жизнь прожил бедняком, урезывая свои потребности до крайности и это несмотря на то, что он знал, что такое жизнь в свое удовольствие и умел сам жить широко. Он дарил от своего духовного богатства, от изобилия своих духовных даров, а не от готовности дарить, происходящей от собственной бедности и потому то, что он давал, всегда было драгоценно. Он давал подлинные ценности, а не то, что ему было не нужно, — с величием и спокойной радостью он отдавал самого себя. С внешней стороны его жизнь представляла из себя тяжелый жертвенный путь, полный лишений и скорби, но для тех, кто его знал, раскрывался в нем источник подлинной духовной красоты — беспредельно могучей и бесконечно доброй. Мы все, знавшие его в последние годы его жизни, все, без исключения, храним в себе неизгладимое обаяние его образа и для многих, многих из нас встреча с Карелиным была переломной точкой на стезях жизни, ибо в его присутствии разбивалась вдребезги соблазнительная мишура жизни, в огне его речей очищались сердца и только подлинно человеческое в его идеальном образе вставало перед нами, как призыв к борьбе за добро, за свободу и счастье истерзанного, поруганного человечества. А. А. Солоновт
Могила мудреца На одном из московских кладбищ, невдалеке от стен древнего монастыря, лежит могила, над которой возвышается скромный резной деревянный крест в старо-русском стиле. Здесь погребен наиболее выдающийся после смерти Петра Кропоткина представитель русского анархического движения и один из замечательнейших людей новой России —- Аполлон Карелин. Пять лет протекло с тех пор, как мы пережили эти великие скорбные минуты разлуки со своим старшим другом—мудрецом и учителем, значение которого для жизни многих трудно передать обычными бледными человеческими словами. Карелин принадлежит к тому мощному ряду людей, в котором Россия и революционеры всего человечества почитают Бакунина, Толстого, Кропоткина. У великих представителей духа и революции ценно и поучительно не только миросозерцание, как оно выявляется в речах, статьях и книгах, ценны и поучительны не только подвиги, мысли и действия, которые поддаются регистрации современников, но, быть может, больше всего сам человек, — в его глубоком существе, лежащем обычно за пределами, которые доступны взору товарища по борьбе, историка, публициста. Внимательный взгляд, брошенный вглубь даже рядовой человеческой личности, дает много тому, кто хочет провидеть пути общественного развития. Пристальное внимание к крупному человеку, дающее возможность через его внешние высказывания проникнуть до самого строя его души, до глубоких импульсов, им движущих, до конечных ценностей, перед которыми он молчаливо склоняется, когда остается наедине с собой, раскрывает перед нами мир, в котором можно различить не только рельеф богатой индивидуальной жизни, но и ростки грядущих форм жизни целого общественного движения. Личность Карелина точно также может быть источником глубоких прозрений, особенно, если не проходить мимо ряда новых фактов в анархическом сознании, которые как-то особенно созвучны внутреннему строю Карелина. Он шел своей собственной дорогой — путем интенсивной, героической жизни; в ней была огромная, совершенно невидимая для большинства окружающих глубина. И в этой глубине действовали какие-то силы, которые ставили перед ним основные вопросы индивидуальной жизни так, как глубокие формирующие силы жизни общественной ставят ныне перед нами вопросы о смысле и судьбе нашего движения и всей человеческой культуры. И ответы на эти вопросы в отношении личности у Карелина оказывались теми же, что и ответы на вопрос о грядущем дне социального движения, теперь получаемые на почве опыта войны и революций, многими из нас. Крушение великого идола Этот опыт нанес сокрушительный удар старым формам социалистического и анархического миросозерцания. Воззрения довоенного социализма складывались на фоне сравнительно мирного исторического процесса, характеризующего преобладание устойчивых, органических, медленно изменяющихся состояний. Теперь нас гораздо в большей степени интересуют переломы, кризисы, события: от масс, классов, коллективов интерес в значительной степени обратился к личностям и движущим идеям. Новый характер миросозерцания таит в себе глубокие перемены положительного значения и для воззрения анархизма: ныне нам стало очевидно, что те формы социального миросозерцания, которые основывались на органических состояниях мирной эпохи и массовых интересах, таили в себе некоторую внутреннюю порочность, так как стояли в глубоком противоречии с самим существом революционного процесса: ведь они навязывали революции философию и социологию мирных периодов, строили тактику и стратегию революции на почве эпохи без революции, а также отодвигали революционера — человеческую личность прежде всего — на задний план по сравнению с коллективом, массой — косным началом исторических процессов мирных эпох. Стало ясно, что философию революции, философию анархизма в частности, нужно строить в гораздо большей степени на основе изучения социальных кризисов, чем мирных, буржуазных по духу эпох, на основе понимания жизни крупнейших активных деятелей и вдохновителей движения, чем состояний масс в эпохи нереволюционные. Эта перемена точек зрения тотчас привела к потрясающей катастрофе: рухнул глиняный колосс: “хозяйствующий человек” — homo obcohomicus, столько времени бывший основой и буржуазно-экономического и социалистического миросозерцания. Уже давно отмечалось, что все подлинно творческие личности в социалистическом движении, как впрочем и во всех решительно творческих процессах жизни человечества, были людьми, никогда не заинтересованными экономически в осуществлении своей программы или своего идеала. Бакунин отдал свой гений и пламенное сердце революции не потому, что рассчитывал этим увеличить свои материальные блага или укрепить хозяйственно класс, к которому случайно принадлежал. Глубокие искания и моральные муки Толстого не были формой утверждения экономических интересов яснополянского помещика или каких бы то ни было русских или иных дворян. Героическая жизнь Кропоткина вовсе не была направлена на приобретение каких бы то ни было внешних благ. Попробуйте, наконец, представить Махатму Ганди в роли приобретателя, наживающего капиталы и сосредоточенного на получении процента: вы увидите, что это вам не удастся; человек, взятый в своем цветении, —- не человек приобретающий, а человек отдающий свою душу, сердце, самую жизнь. Момент же утверждения и преобладания homo obcohomicus в жизни личности — и стало быть и личностей и коллективов — момент падения из творческого в застывшее, из живого в мертвое, из революции в реакцию. Опыт мировой войны был в этом отношении также поучительным. Миллионы людей гибли в невероятных страданиях —• физических и моральных — за дело, которое в сущности не было их делом. Они не реализовали в войне или ею, или после нее никаких хозяйственных интересов. Были ли они патриотами или интернационалистами, безразлично: не экономический стимул держал их в траншеях и заставлял отдавать себя на растерзание зверю войны. Люди, хозяйственно заинтересованные в войне и ее результатах, жили, в подавляющем большинстве, в комфорте и безопасности. Homo obcohomicus пребывал в тылу, а сражался, побеждая или погибая, не он. И субъективно и объективно миллионы, принимавших участие в войне, были ее участниками только потому, что из их сознания был вычеркнут homo obcohomicus. Затем пришла полоса революции. Роль homo obcohomicus мы могли особенно отчетливо наблюдать на завершающемся теперь русском революционном процессе. Оставляя в стороне вопрос, права или не права была та или другая из боровшихся в революции сторон, мы должны признать, что то поколение революционеров, которое было активной силой в Октябрьских событиях и в ближайшие годы, хотя и говорило ныне окончательно выцветшие речи о том, что они будто бы выражают экономические интересы пролетариата, — это почти целиком сгоревшее в революции поколение ничего не приобрело само и не собиралось приобретать для себя в смысле хозяйственных благ: этими благами ныне пользуется — да и то бог весть в каких размерах — пришедший тому поколению на смену совсем иной и весьма подозрительный социальный тип. Ни объективно, ни субъективно русские революционеры 1917-1920 годов, как и участники всех прежних русских революционных течений, как бы мы ни расценивали их деятельность по существу, не были представителями типа homo obcohomicus. Но если в конкретной жизни великих деятелей революции и подвижников духа хозяйственные мотивы никогда не играли роли, если величайшие события нашего времени -— мировая война и ряд революций — не определялись для миллионов их активных участников экономическими интересами, то неизбежно было сделать тот вывод, что и вообще жизнь человечества, его историю творит не хозяйствующий человек, а кто-то другой. И если действительно грядущее в своем росте всегда сталкивается с прошедшим, творческое с омертвевшим, — это вовсе не значит, что грядущее целиком определяется, творится вчерашним днем, что все потенции завтрашнего дня уже фиксированы в изжитом. Признавать это — значит только демонстрировать великое омертвение сознания, великое отрицание жизни. Хозяйственный интерес и носитель его homo obcohomicus, как оказалось, вовсе не является ключем к разгадке тайны социального бытия: они не ключ к знанию, а лишь признак из царства мрачных теней — древнего звериного мироощущения и миросозерцания, из века в век, из страны в страну сопутствующего человечеству и разлагающего его творческие порывы и революционные возможности. В отношении же социального освобождения ныне мы увидели, что homo obcohomicus — одно из самых прочных звеньев крепкой цепи, связывающей революционное сознание с капиталистическим миром. Мы осознали религиозный в сущности (в смысле дурной религии) характер этого понятия: когда мы говорим, что в жизни и в революции человек действует, как носитель, прежде всего, экономических интересов, мы тем самым благоговейно преклоняем колени перед некоторым алтарем; мы утверждаем этим, что выше всего, прекраснее всего и потому реальнее всего — одна ценность: обладание материальными благами, накопление их. Мы бессознательно творим себе кумир, которому поклоняемся сами и требуем поклонения ему от других. Но это благоговение, это утверждение первенства эмоций стяжания и обладания — общи у нас с теми, кого мы в политике и экономике считаем своим классовым врагом: у нас с ним один алтарь и одно божество. Поэтому, когда мы говорим о разрыве между классами, между старым и новым миром, мы называем разрывом мелкие трещины — расхождения политические и хозяйственные — в то время, как сознание наше и сознание капитализма — единое, монолитное, органически целостное. Мы увидели, что в этом благоговении перед homo obcohomicus, — кроме дурного религиозного содержания, нет решительно ничего. Мы убедились на опыте, что перенесение этого божества в социалистический пантеон несет в себе огромную силу морального разложения, умственной узости и общественного одичания. И это познание освободило нас из плена: великий идол довоенного социализма и экономики рухнул: одним оплотом реакционного миросозерцания в социализме стало меньше. Это была огромная победа. Конец массового человека Вместе с homo obcohomicus был низвергнут в бездну и другой идол, носящий имя “массы” и “коллектива.” Когда в условиях монархического и капиталистического гнета мы видели страдающими огромные слои трудящихся, у нас создавалась естественная и вызванная благородными чувствами иллюзия, что стоит лишь устранить стеснения творчеству масс, и всё сразу станет хорошо: ибо массы сами по себе хороши, несут высшее благо, справедливость, красоту. Но горький опыт рассеял эту иллюзию: мы видели и видим эти якобы освобожденные массы трусливо плетущимися за недостойными вожаками, мы видели их на каждом шагу отказывающимися от своего человеческого достоинства, свободы мысли, независимости действий: не только во времена римских цезарей, но и в социалистических собраниях XX века, мы слышим рев толпы, требующей все новой и новой крови, новых смертей для несчастных, попавших к ней в руки. И мы еще раз осознаем тот старый, как мир, и несомненный факт, что люди, в одиночку взятые, выше, благороднее, прогрессивнее, чем, если мы берем их скопом: мы осознаем снова то давно отмечавшееся положение, что если с трудом, но все же возможно преодолеть косность индивидуального сознания и зажечь высоким и чистым огнем душу отдельного человека, то бесконечно труднее зажечь этим огнем надолго и прочно людские коллективы. Над этими последними безгранична власть древнего, сти-хийно-звериного миросозерцания, и эта власть зверя неизбежно берет свое и побеждает огонь творческой напряженно рвущейся вперед и вверх отдельной личности: в рабочем движении это будет означать вечно повторяющуюся победу сторонников эксплуатации колониальных народов над сторонниками их освобождения, реформистов над революционерами, социал-демократов и большевиков над анархистами, человека типа homo obcohomicus над человеком типа Толстого, Кропоткина и Карелина. Тяжелый опыт последних 10-15 лет дает нам право утверждать, что ни одна из существующих ныне в рабочем движении старых идеологий не в состоянии спасти пролетариат и человечество от власти древнего зверя. Стихийно звериное миросозерцание человеческих коллективов, хотя и прикрытое культурными формами, неизбежно превращает и еще долго будет превращать каждое революционное движение в реакционное. Борьба между революцией и реакцией имела место во все критические эпохи истории не только как столкновение нового и старого строя, но больше всего — как борьба света и тьмы, прогресса и реакции в пределах самой революции. И мировые революции обычно сменялись реакционными периодами не потому, что их раздавливала извне сила старого порядка, а потому, что он воскресал в самой революции и подменял ее душу живую мрачной душой древнего зверя. Стихийно-звериный коллективизм, побивавший камнями пробуждающуюся индивидуальность или отправлявший ее на Голгофу две тысячи лет назад, ныне составляет сущность того учреждения, которое называется государством. И пока стихийно-звериная душа коллектива не будет преодолена, государство будет бессмертно. Так превращаются в организации насилия социалистические партии, так превратятся в организации властвования синдикальные объединения трудящихся, та же участь несомненно ждет и анархическую коммуну... В преддверии нового мира Величайшая задача революционного и, в частности, анархического движения ныне заключается несомненно в том, что оно должно сбросить с себя обветшалые и загрязненные одежды. Нам нужно прежде всего новое мироощущение, сознательная смена самих основ нашего общего миросозерцания, из чего естественно вытекут решительные изменения в принципах и методах анархической работы. Наше отношение к миру, к человеку, к обществу постигла катастрофа. Оно рухнуло потому, что homo obcohomicus парализовал попытки революционеров зажечь огонь свободы и восстания в сердцах угнетенных рабочих: оно рухнуло потому, что власть стихийного зверя подчиняла и подчиняет все коллективные усилия переустройства социальных отношений. Но если попытка построить миросозерцание революции и систему действий революционера на homo obcoho-micus разлетелась в прах, — должна быть найдена иная основа для воззрений и поступков. Ею не может быть, как мы видели, масса, коллектив, такой, каким он известен нам в конкретной жизни: все до сих пор возникавшие коллективы несут в себе реакционное ядро, и все они обречены на то, чтобы превратиться в организации властвования и насилия. Не коллектив, а человек — вот в каком направлении нужно искать выход, но не человек, хозяйствующий,* приобретающий, не homo obcohomicus и не человек массовый, а человек в каком-то ином аспекте. В социалистическом движении мы привыкли смотреть на человека, как в механике смотрят на физическое тело: оно — носитель энергии, передатчик силы, повинующаяся и сопротивляющаяся внешнему импульсу масса. И человек в нашем движении берется больше Е;его, как носитель инерции — хозяйственного интереса да как материал для формирования пропагандистом и агитатором: он — тоже “масса.” Как механика — наука о мертвых телах — отбрасывает сложность и многостороннюю качественность своих тел, так социализм и анархизм в большинстве случаев захватывает не всю личность человека, а один или немногие ее поверхностные слои. Но каждый человек •— сложная лестница многих слоев, в нем есть глубины, покрытые завесой полусознательного и бессознательного, в которых живет то, что является подлинным центром его умственного и морального существования. Не будем же обеднять или принижать человека: мы не правы, когда думаем, что у всех живущие в глубине души ценности сводятся к утверждению зоологического самосохранения и приобретательству. Человек с такими ценностями — не человек вообще, а только один из упадочных типов человеческого существа: это буржуа, эксплуататор и государственник в метафизической сущности своей, на какой ступени социальной лестницы он ни стоит — рабочий он или предприниматель, консерватор или революционер. И безнадежное дело — строить миросозерцание революции, исходя из этого упадочного типа человека-буржуа. Борьба за душу народа Мы были — сознаемся в этом -— плохими пахарями: плуг нашей пропаганды и агитации поднимал только близкие к поверхности слои личности — именно те, с которыми была связана реакционная психология homo obcohomicus и человека массы. Попробуем же пахать по-иному: попытаемся вскрывать в нашей работе те глубоко лежащие в душе человека импульсы, которые определяют и его мышление, и его поступки, попытаемся найти такие магические слова, такие бурей и огнем овеянные призывы, которые потрясут глубину индивидуальной души, сожгут старые, узкие и звериный отблеск в себе хранящие ценности и вскроют под пеплом чистое золото подлинного человеческого сознания. Нам уже довольно пропаганды и агитации, говорящих о пятачковом интересе текущего дня или расписывающих мещанскую утопию всеобщего благополучия через сотни лет. Этот метод не дает прочных результатов, ибо он нищенски поверхностен. Пойдем же в глубь — революциони-руем последние ценности каждого человека: тогда мы достигнем конечного и непреходящего результата, так как это изменение ценностей даст новую кристаллизацию всех душевных сил — интегральную революцию индивидуальности. Неверно утверждение, что пролетариату препятствуют освободиться капиталистические хозяйственные условия: не цепи делают раба, а рабское сознание. Капитализм корнем своим имеет не экономическую зависимость работника, а приниженное, к буржуазному мироощущению привязанное, и потому в существе своем капиталистическое сознание самого работника. Сущность социального вопроса в том, что трудящиеся обладают упадочным сознанием. Они угнетены потому, что их система ценностей — отблеск системы ценностей их угнетателей, потому что они подчинены в своем мироощущении и взглядах враждебному лагерю. Не порвав внутрен-но с капитализмом, рабочие вечно будут из самих себя воссоздавать формы властвования, эксплуатации и угнетения — и не только колониальных народов и завоеванных стран, но и огромного большинства своей собственной страны. Политиканы могут одурачить трудящихся рассказами о том, что наступят всеобщее счастье и свобода, как только власть над народом перейдет в руки пролетариата — в лице, конечно, его “вождей,” “идеологов” и т. п., но мы-то хорошо знаем, испытав это на самих себе, что переход власти ничего не меняет по существу и что недавние революционеры, борцы за свободу и счастье, мечтавшие стряхнуть цепи мирового страдания со всех, через пять исторических минут после прихода к ним власти превращаются в насильников и поработителей. Буржуа и государство оплотом своим имеют современное состояние рабочей души: здесь именно они и должны быть разбиты в первую очередь. Старое и новое сознание Чтобы социальное движение возродилось, нужна великая переоценка всех ценностей и вытекающая отсюда смена общего мировоззрения, а не только ревизия социальной философии нашего поколения. Всю глубину современного кризиса миросозерцания мы еще не в силах охватить. Поэтому новое сознание можно только предчувствовать в целом и намечать его отдельные, творящиеся элементы. Однако, ясно, что оно не будет изобретено или научно установлено: оно творчески выро-стет из того солнечного ядра, которое лежит в глубочайших основах культуры всех народов и всех времен и которое всюду затемнено, подавлено и унижено ветхим звериным миросозерцанием. Последнее прежде всего характеризуется приниженностью, в какую оно повергает формирующий, осознающий творческий аспект бытия, превознесением косного и хаотического его аспекта — материальности, идолопоклонством перед механизмом и подлинной религией машины. В области нравственных переживаний древнее мироощущение оказывается слепым к различению добра и зла, ибо какая же на самом деле четкая и незвериная мораль может быть выведена из его основного восприятия — хаотически — материального строя мира по существу? Эта слепота нравственного сознания создает возможность не только оправдания всех форм капиталистического угнетения, но и величайших преступлений, творящихся в наши дни во имя социализма и пролетариата; она делает возможной постановку трагического вопроса: неизбежно ли связан социализм с нравственным уродством? Человеку этого мироощущения присуще хаотическое состояние эмоций вместе со стихийным утверждением ценности низших эмоций — питания, размножения, стяжания и существования, — что и является психологической основой материализма этого человека. Такая эмоциональная структура сопровождается переживанием неполноценности своего “я,” ощущением его недостойного состояния. А отсюда вытекают рабский строй жизни — берем ли мы человека этого типа в подчинении или во властвовании — безразлично: вечно воскресающая диктатура коллектива над личностью, государство и оф-фициальная церковь. Это миросозерцание было до сих пор поистине бессмертным. Величайшую формулировку оно получило в Ветхом Завете: оно дало мрачную душу Риму и римскому праву: оно было подлинным гением церкви Константина и Августина, живой силой папства и вместе с тем Лютера. Оно руководило германским духом, когда тот насаждал государственность во Франции, Британии, России. Оно проникло и проникает собой все формы и все направления социальной жизни — монархии и республики, религиозные концепции и организации и течения атеистические. Его печать лежит на всех фронтах господствующих экономических мировоззрений, и поистине классической его формой в новое время была английская классическая экономия. В области социализма оно нашло свое крупнейшее выявление в марксизме и свое предельное практическое осуществление в советском коммунизме. Но во все эпохи у каждого народа, наряду с миросозерцанием ветхого зверя, существовали струи другого потока сознания и бытия, подлинные струи живой воды, существовали нежные, слабые и прекрасные ростки иного — всечеловеческого, универсального, исполненного свободы, любви и мудрости — сознания. Народ, заложивший мрачные основы Ветхого Завета, выдвинул также и пророков, создал чистое учение ессеев и Каббалы. Яркий луч свободы и любви блеснул человечеству в анархическом коммунизме первоначального христианства. Его не до конца задавила реставрированная по ветхозаветному церковь: в учениях и общинах гностиков, в манихействе, у альбигойцев, богомилов и в других ересях и сектах средневековья, так же как и в средневековом рыцарстве сохранились для грядущего эти светлые и чистые струи. Некоторые из религиозно-социальных течений реформации и английской революции продолжали это направление. Германский дух, кроме государ-ственнического, дал и другой свой аспект в Персифале. В новейшее время этот светлый луч вспыхивал то здесь, то там — в русском народном сектанстве, в некоторых думах Реклю, Кропоткина, Карпентера, в исканиях Льва Толстого, гностика-анархиста Евгения Шмитта, революционера и мудреца Аполлона Карелина. Во всех течениях, у всех мыслителей, у которых сильна эта светлая струя, поражает одна общая черта: путь от целостного человека, от его сознания, от глубочайших ценностей, в этом сознании заложенных, к бытию, — а значит и к бытию социальному — через свободу, любовь и мудрость: примат сознания над бытием. Все реакционное, государственническое, отрицающее личность и предающее свободу силы и формы, всегда основывалось на миросозерцании древнего зверя, все силы освободительные и человечные — на светлых струях второго миросозерцания. Трагедия социализма и анархизма была в том, что, принадлежа в глубокой своей сущности к лагерю любви и свободы, он идеологию свою подчинял древнему реакционному миросозерцанию. Ныне этот великий обман кончается. Анархизм находит, наконец, свое подлинное место в истории человечества и тем самым сможет выявить свое настоящее лицо. Основная задача современности На пороге грядущего дня стоит совсем новое анархическое и социалистическое восприятие мира. В светлом тумане становления еще скрыты его контуры. Но уже сейчас ясно, что ему будет присуще гордое самосознание человека, который свободно направляет свои творческие силы на бескорыстное познание, а не на веру в авторитеты, программы, вождей; на отдачу, жертву, а не на стяжание; за достижение дальнего и горнего, а не на коленопреклонение перед ближним и бытовым. Достоянием каждого, даже самого меньшего и слабого из братьев человеческих, будет уверенность в абсолютной ценности каждой человеческой личности, в ее высоком, надисторическом смысле и значении. Ныне угнетенный и самого себя унизивший человек почувствует тогда над своим челом сияющий венец, и в этот только миг он окажется в силах сбросить с себя вековые цепи... Великая революция ценностей освободит социалистическое сознание от властвующих ныне над ним идолов, благодаря чему анархизм из социально-политической теории сможет стать органической системой сознания — всех сторон сознания, а не той только, которая соприкасается с общественным строем, и органической системой поступков — всех поступков, а не только политических и социальных. Новая форма сознания организует на основе преображенных конечных ценностей всю жизнь личности, приведет в гармонию эмоциональную сторону ее, облагородит разум и даст ту внутреннюю свободу, без которой революционер вечно остается во власти старого мира и реакционных идеологий. Превалирование личного, индивидуального над коллективным вовсе не означает холодного и надменного господства интеллектуально-мощного человека или сверхчеловека над мелкими рядовыми людьми — человеческой “массой”: люциферическая гордость и властность выро-стали как раз на переоценке развившегося изолированно интеллекта в древнем зверином миросозерцании. Новое же мировоззрение берет в основу целостную личность человека прежде всего в его цветении — в пафосе высших эмоций: путь нового человека — путь любви и жертвенного служения миру и в первую очередь трудящимся и обремененным. Ощущение сияющего венца над моей головой немыслимо без того, чтобы я видел такой же сияющий венец над головой каждого из людей. Новое сознание поэтому несет не распад связей между индивидуумами, а как раз наоборот, только оно и делает возможным решение основной проблемы общественного строительства нашего времени: создание коллектива неподвластного древнему звериному миросозерцанию, создание той светлой и одухотворенной соборности, образ которой всегда носился перед взорами великих анархистов и духовных вождей человечества. Таким образом в социальном движении должна зазвучать новая струна. Жизнь несомненно идет в сторону все большего уравнения, упрощения и демократизации тех институтов, которые люди создают для обслуживания общих своих нужд. Пределом такого развития является анархизм, который хочет уничтожить величайшего врага этой демократизации, опору вечного неравенства —- государства. Но процесс демократизации отнюдь не исчерпывает собой всего содержания, развития человечества к свободе и анархии. Он только одна сторона этого развития, один из его моментов. Демократизация учреждений не решит социального вопроса и будет стихийно вызывать из прошлого формы привилегий и различные кастовые барьеры, если наряду с ней не будет поставлена и другая величайшая цель — аристократизация сознания каждого человека. Вестник грядущего Аполлон Карелин был первым русским анархистом, ясно осознавшим трагедию современного социалистического и анархического сознания: он вышел из нее, героически отвергнув старое, ветхозаветное миросозерцание и целиком перейдя на почву нового — господство великой свободы и любви несущего сознания. Дерзновенный переход на землю грядущего дня наложил яркую печать на всю личность Карелина. При первом приближении к нему поражала огромная внутренняя сила этого богатыря духа, непреклонная, внутренним светом освещенная устойчивость его поступков, величавая широта, ясность и человечность взглядов. Узнававшему его ближе становилось очевидным скрытое от мира духовное горение, глубокое благородство и великая свобода всего строя его мыслей и чувств, так же как и отношения к людям. Те же, кому выпадало счастье быть внутренно близкими с ним, знали, что источником этого богатства является у него миросозерцание чрезвычайной глубины, действенности и смелости — миросозерцание, основывавшееся на таком ощущении мира, в котором личность утверждает некоторые сверх-эмпирические конечные ценности. Яркое пламя этих утверждений пронизывало всю жизнь Карелина и делало его одним из тех носителей вечного огня, которые далеко вперед освещают путь бредущему в тумане истории человечеству. Эта глубина и высокий пафос мироощущения высоко поднимали Карелина над эмоциональным, моральным и умственным хаосом, в котором обычно пребывает большинство людей, в том числе и революционеров, и анархистов. Глубина и моральный пафос делали личность и жизнь его подлинно аристократическими, и этот возвышенный аристократизм ощущался всеми, кто соприкасался с Карелиным, он сказывался даже во внешнем его облике, в манере держаться с людьми. Самый факт общения с Аполлоном Карелиным направлял мысли и чувства человека на возвышенное и глубокое, отрывая от повседневного, бытового, мещанского. Он подлинно чувствовал над собой сияющий венец. И это аристократическое сознание, одним из элементов которого была естественная убежденность в том, что носитель его призван дать многое и показать многое на путях жизни и революции, не замыкало его в узком круге личных и центрических переживаний, а, наоборот, — вечно звало его к людям и человечеству, на пути щедрой раздачи сокровищ своего сердца и разума, на пути самопожертвования и страдания за других, в этом ведь высшая и единственно подлинная форма аристократического сознания. Его жизнь дальше всего была от бледных призраков из царства мертвых — от самосовершенствования и непротивления: ей, наоборот, была присуща величайшая готовность к активной борьбе с насилием и угнетением и полное сознание в этой борьбе самого себя. Жизнь Карелина делало необыкновенно прекрасной определявшееся его новым сознанием сочетание: повседневную анархическую работу пропаганды, помощи заключенным, руководства провинциальными группами, писания под десятком псевдонимов массы статей в анархических газетах Старого и Нового Света — эту рядовую и серую, при всей своей великой необходимости, работу вел человек с душой героя и глубиной мудреца, — вел настолько оставаясь в тени, что обычно почти никто из окружавших его и не подозревал, что рядом с ним мыслитель, ученый, моралист огромной силы. Личность и жизнь Карелина были в наши дни первой и блестящей победой Нового Сознания. И в истории анархизма, равно как в памяти и любви знавших Аполлона Карелина, образ этого мудреца-анархиста сохранится, как образ вестника грядущего дня, как первый могучий призыв колокола, зовущего к горным высотам, к новой борьбе за всемирную любовь и свободу! Н. И. /7. Вольная жизнь
Что такое закон? Мы остановимся в этой работе на выяснении того института, который называется законом и на который постоянно ссылаются правители. Все правительства требуют от своих подданных беспрекословного подчинения закону. Об издании законов, подчиняться которым обязаны будут граждане, мечтают и социалистические партии, стоящие в оппозиции к современным правительствам. Захватив власть, они установят правительство, которое и будет законодательствовать. Из того, что за законы высказывается громадное большинство людей, вовсе еще не следует, что мы должны отказаться от выяснения, как сущности закона, так и его значения для общественной жизни. Быть может, в результате исследования окажется, что без законов можно обходиться, как можно, например, обходиться без религиозных обрядов, которые тоже считались необходимыми громаднейшим большинством населения, — считались полезными, как приверженцами господствующих вероучений, так и еретиков. Быть может, мы придем к выводу, что закон не только бесполезен, но и вреден для общежития. Закон — это составленные правителями и в настоящее время обычно напечатанные правила, указывающие людям, что они обязаны делать. За ослушание таких правил люди подвергаются мучениям, которые подробно переименованы в этих же законах. Итак, закон — прежде всего воля правителя, нечто вроде шапки Гесслера, которой должны были кланяться швейцарцы времен легендарного Телля. “А то если случается, что нет в наличности начальника, чтобы принять от него приказание,” — пишет Элизе Реклю, — “зато разве не имеются всегда под руками готовые формулы в виде правил, указов или законов, изданных теми же самодержавными государями или иного рода законодателями? Эти готовые формулы вполне заменяют собою непосредственные приказания и им следуют, не справляясь с тем, согласны они с внутренним голосом совести или нет.” Понятно, что в зависимости от законодателя мы можем встретить более или менее плохие, глупые и бесчестные законы, но это обстоятельство отнюдь не мешает мучить ослушников и таких законов. Писанное право Совокупность писанных законов составляет писанное право. Современное право — это право принудительное, право повелевающее, отнюдь не считающееся с мнением того лица, которому дает свои предписания. “Право стремится приобрести объективное значение по отношению ко всякому отдельному лицу,” — говорит Р. Штаммлер. “Оно желает повелевать, совершенно не считаясь с согласием данного лица, ему подчиняемого, и никогда нельзя в этом согласии искать основы принудительной силы правопорядка. Правовые положения сами определяют, кто подчинен им, при каких условиях данное лицо может сделаться членом общества, жизнь которого они регулируют, когда он может выйти из него.” Закон и право немыслимы без принуждения. Все современное право основано на принуждении насилием и его согласования со свободой каждого безусловно немыслимо. Где имеется насилие, — там нет свободы. В той или другой форме, всякий закон, без исключения, грозит тем или другим людям насилием. Так, например: за приказом-законом уплатить долг стоит угроза насилия над ослушником — вторжением в его жилище, захват его вещей. За приказом не взыскивать долга (без приказа суда) стоит угроза насилия над человеком, который, ослушавшись закона, рискнет взыскивать этот долг. За законом обучать детей стоит угроза насилием отнять у неповинующегося закону часть его имущества (штраф) или какая-нибудь другая угроза. За государственными и уголовными законами насилие стоит открыто, и все действующее право, определяемое, как право принудительное, сводится к насилию одних людей над другими. Нет повелевающего закона, который не заключал бы в себе или не имел бы за собой приказа мучить, обижать, делать зло неповинующемуся ему человеку. Не императивные законы, ярким образчиком которых служит Щедринский закон “Всякий обыватель по праздникам да печет пироги,” и многие законы нашего бывшего устава о благочинии, т. е. законы, за неповиновение которым не грозит мучение, обида и пр., — вовсе не являются законами в строгом смысле этого слова, а простым указанием на то, что часто происходит в действительной жизни. Такие законы, разумеется, безобидны, но их нет смысла писать и сами юристы называют их несовершенными законами. Характер законов Люди не любят говорить о насильственном, мучительном характере законов. Благодаря заразе лицемерия, люди не говорят: “Иван Иванович приказал Петру Петровичу зарезать или задушить (или мучить в течение 5 лет) Семена Семеновича,” а говорят: “Закон повелевает казнить смертью (или заключить в тюрьму) преступника,” причем со словом “закон” соединяется представление о чем-то безошибочном, святом, над людьми стоящем, тогда как в сущности закон — это всегда вредный, часто глупый и бесчестный приказ часто глупых и бесчестных людей. Логика карающего закона — это логика сумасшедшего дома, сводящаяся к принципу “убийство дурно, а потому надо убивать,” т. е. казнить “убийцу.” Ограбить у человека имущество дурно, а потому надо лишить человека возможности пользоваться материальными благами, — силой лишить его свободы и т. д. Право—сила Современное право всецело основано на силе: это призна-ется таким авторитетным юристом, как А. Менгер. Указав, что правовые учреждения возникли, как результат насилия, он продолжает: “На более высоких ступенях развития народа, большая часть перемен в правопорядке, конечно, совершалась не мечем, а законодательством. Но, во-первых, эти мирные преобразования правового строя большею частью очень незначительны, особенно в области частного права, этой важнейшей области правопорядка; здесь законодательство, по крайней мере до сих пор, ограничивалось только тем, что санкционировало с некоторыми ограничениями сложившееся соотношение сил. А, во-вторых, само законодательство представляет из себя только мяч, которым играют социальные силы, предписывая ему содержание законов в определенных рамках и предоставляя ему в мирное время свободу лишь в декоративных формах правопорядка.” Конечно, закон, санкционируя отношение сил, сплошь и рядом отстает от текущей жизни и тогда жизнь отбрасывает его, как негодную ветошь. Бывает и так, что законодатель неверно понимает соотношение сил и закон игнорируется жизнью с первой минуты своего появления. Но, в общем, Менгер прав, говоря о том, что закон только санкционирует имеющееся соотношение сил; можно добавить только, что эта санкция или, точнее, регистрация зачастую является запоздалой. “Все учреждения, — продолжает А. Менгер, — которые по своему характеру служат насильственным целям привилегированных кругов — дипломатия, войска, флот, юстиция, администрация и финансовые ведомства, привлекают почти все внимание современного государства../’ Нас интересует в этой цитате, что Менгер, не колеблясь, относит юстицию к учреждениям, служащим насильственным целям привилегированных групп населения. Не один, разумеется, Менгер, раскрывает перед нами истинный характер права. Известный социолог J1. Гумило-вич указывает, что право “на всех ступенях своего развития является результатом социальной борьбы и его нормы указывают границу, на которой остановилась эта борьба между отдельными группами за власть и могущество” То же самое относится и к праву частному: “всегда и везде, таким образом, обязательственное право, этот наиболее характерный отдел права частного, было границей, установленной более могущественной группой и отделяющей класс от класса, группу от группы, причем право это ложилось всегда тяжелым ярмом на более слабых, чуть ли не окончательно убивая их...” В подтверждение того положения, что “право является простым следствием насилия,” что оно защищает интересы сильных групп населения, можно привести бесчисленное количество примеров и несколько указаний серьезных юристов. Основанное на силе и пользующееся насилием, право полезно только сильным группам населения и юристам, защищающим современное, т. е. принудительное, право; остается только мечтать с А. Менгером о лучшем будущем, так как он признает, что, “несмотря на бесчисленные попытки низших народных классов изменить условия государственного и общественного строя в свою пользу, правовая система, преследующая пользу широких народных масс, а не немногих сильных, еще только имеет быть созданной в будущем и в теории, и в практике.” До сих пор нет теории правовой системы (мы говорим о принудительном праве), которая явилась бы безвредной для народных масс. Вредны и пагубны и те (не то, что теории таких систем, а и зародыши теории), которые даются социалистическими писателями —сторонниками принудительного права. Впрочем, не в том беда, что все попытки создать полезную для масс систему принудительного права обречены на неудачу, а в том, что народные массы, сколько бы они ни сделали попыток изменить в свою пользу условия общественной жизни, всегда останутся в положении эксплуатируемых, если только не откажутся от принудительного права. Нельзя построить благо масс на системе принудительного права, как нельзя построить благо рабов на системе пыток. Нелепость законов Закон вреден для всего общежития, между прочим, и потому, что не нужны и вредны в человеческом обществе мучители, т. е. судьи, палачи, законодатели, тюремщики и т. п., все равно выбранные или невыбранные, умные или глупые, более или менее свирепые. Основная нелепость и ненужность закона заключается в том, что, ссылаясь на него, т. е, на волю правителей, люди считают возможным мучить других людей, причем черпают оправдание своих антисоциальных поступков или в низменном чувстве мести, или в трусливом и тоже в низком желании запугать муками тех лиц (“преступников”), которые могут нарушить какой-либо закон. То и другое оправдание совершенно не приемлемо этикой большинства. Она допускает еще нападение на нападающего или на защищающегося человека, допускает бой, борьбу, но не мучительство, не издевательство над людьми, безусловно лишенными возможности сопротивляться, каковыми и являются захваченные государством преступники. Только низменная мораль тех нравственно и умственно павших групп общества, из которых вербуются и выдвигаются палачи, правители, судьи и т. п., допускает мучение не могущих защищаться, да и какие еще мучения — почти всегда длящиеся, холодно рассчитанные, беспощадные, т. е. наиболее отвратительные. Нечего останавливаться на том, как сильно развращают эти мучители такой деятельностью окружающую их среду. * * * Сам по себе закон опять таки является развращающим фактором, не говоря уже о том, что закон зачастную проповедует месть — одно или два ока за око, пять зубов за зуб, — заметим, что раз имеется закон, то все, что им не воспрещено, — позволено. Такой неизбежный выпад гибельный для массовой нравственности. Раз существуют законы, раз они не воспрещают подлых поступков, то люди логически умозаключают, что нравственно позволено ходить к проституткам, заниматься ростовщичеством, жить эксплуатацией рабочих, сдачей земли в аренду, позволено устраивать массовые убийства: объявлять войну, локауты и т. д. Наличность закона — это указание ловким людям на то, как надо делать чудовищно подлые поступки с общего открытого или молчаливого одобрения . . . Нет людей более безнравственных, чем судьи. Их нравственность близка к нравственности худших из палачей. “Мы нередко видим, что людям удается удовлетворить природную низость и злость при помощи административной или уголовно-судейской деятельности, которая дает им возможность под видом строгого исполнения долга удовлетворить свои низкие страсти, — какая же разница между подобными людьми, которые для удовлетворения тех же страстей прибегают к поджогу и убийству?” (Л. Гумилович). Прудон был прав, говоря, что закон — "паутина для сильных и богатых, неразрывные цепи для бедных и малых, рыбачья сеть в руках правительства ,” но еще правильнее было бы сказать: закон — это сигнал, указывающий пиратам, куда надо направляться для того, чтобы беспрепятственно убивать и грабить. “Под предлогом защитить общество от мелких воров и единичных разбойников/’ — пишет И. Ветров, — “современное гражданское и уголовное законодательство поощряет самое колоссальное воровство и самые ужасные убийства, которые производятся на войне и фабриках, на заводах и в имениях богатых землевладельцев/’ Прав был Гартман говоря, что “мы близки уже к тому моменту, когда воровство и обман, преследуемые законом, будут, как обыкновенные ошибки, как грубая неловкость, вызывать презрение со стороны настоящих мошенников, нарушая вместе с тем чужие права.” Закон—опека Закон — это опека над людьми. За последних кто-то думал и думает, их кто-то оберегает и в результате неизбежное усыпление широкой самодеятельности, усыпление, имеющее в современных государствах чуть ли не трагическое, гибельное влияние на массы. Раз есть закон, — о многом и самом важном не надо ни думать, ни рассуждать, не надо считаться с голосом совести, взвешивать, что хорошо, что плохо: купец — торгуй; чиновник — служи; палач — вешай; судья — приказывай вешать, а человека — не ищите. Нет критики, нет анализа, нет рассуждений. Ни в мире идей, ни в мире вещей нет ничего, что бы так задерживало развитие ума и нравственности, как закон, обращающий потенциально кипучую жизнь в застывшее, покрытое плесенью, болото. “Пока кто-нибудь находится в сетях повиновения и должен каждый свой шаг направить по следу другого, — дремлют его разум и духовные силы,” — писал Годвин. “В различные исторические эпохи,” — читаем мы в “Новом Гулливере” Н. Чайковского, — “опека эта попадала в руки разных господ, между которыми общее было лишь то, что все они неизменно считали себя ‘избранными' и ‘лучшими’ в своем роде и неизменно же утверждали, что их опекаемые всеми успехами своей культуры обязаны им — их исключительным талантам и ‘добродетелям/ а наряду с этим, как жалок умнейший из них (не говоря уже о длинном ряде идиотов) перед коллективным разумом массы. Вполне естественно, что правители, являясь опекунами, противодействовали всяким попыткам серьезного протеста против этой опеки, противодействовали всякому совершенствованию людей, так как последнее породило бы гибельный для опекунов и опекунства протест. Закон убивает дух живой, убивает прогресс, принижает личное достоинство человека. Закон удивляет своей странной претензией регулировать сложную жизнь человечества определенными нормами. Но именно сложность жизни делает эту задачу непосильной вообще и неверно разрешенной в частности. “Раз начали издавать законы, то трудно положить этому конец.” С появлением новых случаев, закон оказывается недостаточным, так что необходимо всегда издавать новые законы. Книга, в которую право вносит свои законы, постоянно увеличивается и мир слишком мал для всех сводов закона будущности (В. Годвин). “Государство создает/’ — говорит П. Ж. Прудон, — "столько законов, сколько встречается общественных интересов. Но так как таких интересов несчетное количество, то законодательная машина должна безостановочно работать. Градом сыплются законы и указы на бедный народ. Политическая почва скоро вся будет покрыта бумажным покрывалом, которое геологи должны будут обозначать в истории земли ‘бумажной формацией/ Мыслимо ли, чтобы народ или даже само правительство могли бы оставаться в этом лабиринте?” “Государство,” — пишет П. А. Кропоткин, — “создает целые груды этих законов и предписаний, разобраться в которых не может самый искусный адвокат. Оно каждый день прилаживает что-нибудь новое к старой машине и создает настолько сложное, дикое и нелепое, что им начинают возмущаться сами же правители. Оно содержит целую армию чиновников, пауков-взяточни-ков, смотрящих на мир сквозь грязные стекла своих канцелярий, теряющих здравый смысл среди бесконечной путаницы канцелярских бумаг.” Жизнь не укладывается в Прокрустово ложе закона. Если закон, хотя и насильственно, хотя и подавляя самодеятельность (случайно), неглупо регулирует какое-либо столкновение жизненных интересов, то это удается ему не чаще одного раза на тысячу случаев; во всех остальных случаях закон не залечивает вполне излечимую рану на руке, а топором отрубает руку. В ряде случаев, самый “лучший” (из обычно плохих) закон становится отвратительным. Нельзя на всех Сенек скроить по одинаковой шапке и всех русских обуть в сапоги одного и того же размера. Не говоря о резких, бьющих в глаза нелепостях закона, заметим, что нельзя ни найти, ни представить такого закона, который можно было бы применять во всех внешне схожих случаях, не нарушая самым грубым образом чувства примитивной справедливости. Мы не знаем ни одного императорского закона в обширных областях действующего государственного, гражданского или уголовного права, который не превращался бы в известных условиях в дерзкое издевательство над справедливостью и здравым смыслом. Как бы, например, ни делил закон наследства, он не может принять во внимание способа приобретения оставленного наследователям имущества, не может учесть степени участия разных лиц в создании этого наследства, не может принять во внимание степень материального благосостояния наследников, не может считаться с сотнями других важных условий распределения оставшегося имущества по справедливости и, претендуя на последнюю, довольствуется высчитыванием степеней родства, т. е. деятельностью, явно бессмысленной для настоящего времени. Что может быть проще и яснее того закона, по которому вексель должен быть оплачен в указанный векселедателем срок? Но кто знает, что кроется под ростовщическим векселем, кто знает, как разоряет бедняка срочная уплата по векселю, — тот откажется признать вексельное право за разумное и справедливое даже в том случае, если считает современный общественный строй терпимым. Что за невероятное издевательство над элементарнейшей справедливостью скрывается под законом о взыскании хотя бы квартирной платы, аренды, под законом найма и т. д. Как бесконечно глупы и бесчестны невозможные хитросплетения юристов, начиная хотя бы со времен преторских эдиктов и кончая казуистикой и абстракцией современных кассационных судов. Как недалеко ушло (если только ушло) современное материальное и формальное право от “права” древних людей-насильников с малоемкими черепами и “волчьими сердцами.” Не говоря о том, что современное гражданское право является санкцией эксплуатации людей людьми, что оно защищает и поддерживает эту эксплуатацию; не говоря о том, что принудительное гражданское право — это бессмыслица в обществе равных, заметим, что, — даже оставаясь на почве буржуазной и коллективистической этики, даже в тех случаях, когда дело идет о разборе спора между монополистами, — делящими добычу ворами, — нельзя не возмущаться теми нелепостями, которыми оно полно, тем злом, которое оно сеет. Заметим мимоходом, что чуть ли не всемирным правилом исполнения гражданского решения является продажа за один рубль стоящего десять рублей скарба бедняка. Уголовное право Иллюстрируя нашу мысль первым попавшимся примером из области уголовного права, согласимся на минуту со всеми юристами, что только тот закон достоен уважения, который равно строг и равно милостив ко всем, подпадающим под его действие. А между тем, более, чем очевидно, что одна и та же кара, применяема к разным субъектам за одно и то же деяние, причиняет им мучение разной интенсивности, разной болезненности. Я видел человека, который застрелился, когда судьи оскорбили его, вынеся приговор о “строгом выговоре,” и видел человека, который, радостно улыбаясь, благодарил суд за такой приговор. Всякому понятно далее, что те грубые рубрики, по которым делятся, напр., кражи (кражи до и выше 50 к. и 300 р., со взломом, подобранным ключем, вооруженные, прислуги, в дороге, на пожаре, во время чумы и пр.) не гарантируют определенное хотя и колеблющееся в известных границах наказание; каждый раз подводится одно и то же деяние, не гарантируя, что каждый раз назначается одинаково тяжелое наказание. Одна кража со взломом на сумму, хотя бы 200 руб., вовсе не такое же деяние, как другая, другим человеком совершенная кража на ту же сумму и с таким же взломом. Мотив преступления, “преступник,” само “преступление” и потерпевший могут быть и всегда бывают совершенно различны в этих случаях. Это различие не в силах уловить ни судья, ни закон — и решение судьи и закона всегда будет случайным, гадательным решением, решением наобум даже для того, кто признает, что одни люди могут мучить других людей. Нечего и говорить о том, что третья кража, даже с буржуазной точки зрения, может быть несравненно более простительна, чем первая, хотя и карается законом тяжелее; что кража в 209 руб. с этой точки зрения может быть менее простительна, чем кража 305 руб.; но закон, так как он нелеп, знает только мертвые рубрики. “Разве вы знаете все условия среды, наследственности, даже случайные обстоятельства, повлиявшие на его (‘преступника’) мозг и заставившие его совершить тот поступок, который вы ставите ему в упрек?" — спрашивает Ж. Грав. Мы не говорим уже, что тяжесть наказаний, налагаемых законом, совершенно произвольна. Почему человека, совершившего известное преступление надо мучить в тюрьме от 2-6 лет, а не от одного года до двух или не от 6-8, — на этот вопрос не ответит ни один юрист. В законе, по которому полагалось “око за око и зуб за зуб,” мы видим хоть попытку, хоть нецелесообразное выполненное стремление восстановить попранное равенство; современная же система наказания базируется на полном произволе. Вся современная лестница наказаний совершенно необоснованна, так как произвольна любая степень наказания, от которой идут смягченные или отягоченные кары. Нельзя даже доказать, что наказания современных кодексов повышаются с усилением важности преступника и падают с уменьшением ее. Мы встречаемся здесь с грубым, часто ошибающимся (даже с буржуазной точки зрения) глазомером... и только. Можно пересмотреть уголовный кодекс любой страны и, не сходя с буржуазной точки зрения, придется признать его глубоко нелепым и несправедливым. Закон уже потому никуда негоден, что судья и законодатель, говоря английской пословицей, не может влезть в шкуру того, на кого он обрушивает свой закон. Последний потому никуда негоден, что законодатель, будь он десять раз гений, всегда некомпетентен, никогда не может предвидеть будущей обстановки какого-нибудь деяния. Ничего не стоит и парламентское законодательство: не может дар-моед-богач быть компетентен в делах трудового люда, адвокат — в делах купца, купец — в делах ученого и т. д. и т. д. Закон всегда не полон, обычно не ясен, всегда имеется обход его, всегда возможно уклонение от него; при всей своей подробности и необъятности он не может обхватить всей сложности жизни. Закон консервативен. Он создан заранее и его приходится держаться, если боишься наказания, хотя из того, что он предшествовал какому-либо поступку, можно вывести только одно, что он наверное не принял во внимание всех его особенностей, что он наверное нелеп. То,- что старо, вовсе не хорошо поэтому. Во-первых, жизнь идет быстро вперед и, во-вторых, из того, что что-нибудь старо, — вовсе не следует даже того, что это старое предписание было когда-нибудь умно и справедливо. Страшная ошибка называть право мудростью наших отцов “оно скорее плод их страстей, болезни, ревности, жестокосердия и властолюбия” (В. Годвин). Даже из того, что люди в течение долгого времени считали закон необходимым и считают его таковым в настоящее время, — буквально ничего не следует. Мало ли массовых заблуждений пережило человечество. Масса людей так же безосновательно уверена в необходимости закона, как была уверена в том, что солнце ходит вокруг земли, как была уверена в существовании Перуна, Юпитера, Ваала и пр., как была уверена в необходимости для жизни религиозных предписаний, навязанных ей разными жрецами. Закон—выражение чужой воли Закон — выражение чужой насильственной воли — всегда произвол для меня и я имею основания не подчиняться ему. “Пока я не хотел этого закона, пока я не соглашался, не подписывал его, до тех пор он меня не обязывает и он для меня не существует. Привлекать закон прежде, чем я его знаю, и применять его ко мне, несмотря на мой протест, значит — давать ему силу обратного действия и преступать его” (П. Ж. Прудон). “Когда некоторые шарлатаны, говоря с рабочими, ссылаются на законность, как на главный аргумент,” пишет Ж. Грав, “рабочие имеют право рассмеяться и спросить, советовались ли с ними те люди, которые выдумали эти законы.” Если даже все единодушно высказывались за какой-ни-будь закон и если, вместе с тем, я признаю на другой день, что этот закон плох, то и тогда имеются налицо все основания не подчиняться ему. Если я вчера сделал глупость, — из этого вовсе не следует, что я должен преклоняться перед ней сегодня (смотри, Штирнер). Если какой-нибудь закон считается далее всеми необходимым, то не зачем и писать его, не зачем давать ему принудительный характер, не зачем писать закон, что не надо есть людей и что надо спать. Совершенно безразлично, является ли закон приказом большинства меньшинству или, как в настоящее время, приказом меньшинства большинству (парламент — тоже меньшинство); число тут не при чем, раз дело идет о самой сущности закона. Нет оснований, по которым большинство и меньшинство могло бы оправдать свое насилие надо мною, могло бы обосновать этически такой поступок, как навязывание мне своей воли. Где, далее, гарантия, что этот закон полезен для меня или даже для провозгласившего его большинства? Где гарантия, что этот закон не проявление глупости? Причем, раз этот закон навязывает (а он всегда навязывает), закон всегда является актом насилия — злодейства. Нельзя, правда, подписаться под словами одного из героев Ибсена: “Большинство всегда не право.” Кто составляет большинство жителей какой-нибудь страны: умные или глупые? Мне кажется, что вы все согласны, что глупцы. Каким же образом мы можем считать справедливым, чтобы глупцы господствовали над умными. Тем не менее бесспорно все таки, что большинство зачастую делает глупости: им полна история и текущая жизнь. Так для чего же я соглашаюсь путаться в сетях этой всегда возможной и неизбежной глупости? Не потому ли, что ее назовут законом? Почему, далее, не большинство должно пожертвовать по воле меньшинства своей независимостью? Не все ли равно, — один хочет держать в рабстве троих или трое (напр., семья из трех человек) хотят держать в рабстве одного? Можно устроиться так, чтобы ничьи интересы не приносились в жертву интересам других, так, чтобы немыслимо было угнетение одних людей по воле других. Нет никаких оснований требовать от меня, чтобы я подчинялся и меньшинству. Из всей истории я вижу только одно, что оно, походя, злодействует, причем для меня совершенно безразлично, прикрывается ли оно или не прикрывается, как угодно, но только пусть оно не навязывает своей воли. Очень возможно, что я пристану к нему. Пусть меньшинство устраивается, как хочет, но пусть не мешает мне, не подчиняет меня своей воле. Возможно, что я присоединюсь к меньшинству. Я всегда найду меньшинство, с которым мне хорошо будет жить. Я могу жить один, никому не навязывая своей воли и не желая подчиняться чужой воле. Могу жить один в том, разумеется, смысле, что мои неизбежные соприкосновения с людьми будут свободны от какого бы то ни было принудительного права. "Если закон угрожает моим интересам или моей свободе, то на каком основании меня принуждают ему подчиняться и где тот вечный и неизменный принцип, который оправдал бы это насилие надо мной?” — спрашивает Ж. Грав. Ненужность закона Все сказанное далеко не исчерпывает даже главнейших доказательств ненужности и вредности закона, тем не менее, многие аргументы против права удобнее привести при рассмотрении тех доводов, которыми доказывается его полезность или необходимость. Присмотримся к этим доводам. Необходимость законов нередко доказывается путем перечисления особо убедительных примеров “полезных” законов. Тем не менее, из того, что закон, допускающий развод, “полезен,” — вовсе не следует, что полезны и нужны законы. Из этого следует только одно, раз существуют законы, то между ними мыслимы сравнения и выбор. Но из того, что можно издать закон, заменяющий или смягчающий худший, нельзя делать вывода, что закон нужен обществу. Вовсе не нужен закон, разрешающий развод, нужно отсутствие законов, в том числе и закона, запрещающего супругам разводиться, дающего одному супругу власть над другим. Вовсе не нужен закон, обязывающий родителей воспитывать детей. Так как иначе почему же не написать закона о том, что молодые девушки и юноши обязаны чувствовать любовь друг к другу и вступать в брак? Понятно, что родители, не желающие воспитывать детей, сумеют превратить предписанное им воспитание ребенка и простое издевательство над ним. Понятно, что нужно только одно: такой общественный строй, при котором дети получали бы воспитание без отношения к тому, желают или не желают воспитывать их родители. Раз имеются законы — возможен и выбор. Любой анархист предпочтет быть застреленным за свои убеждения в России, чем сожженным электрическим током в С. Америке. Я предпочитаю, напр., работать в стране, где соотношение сил рабочих и предпринимателей таково, что закон зарегистрировал наличность 8-часового рабочего дня и предписывает его и вовсе не желаю работать в стране, где закон говорит об 11-часовом рабочем дне; но ведь, несмотря на эти предпочтения, ясно, что для рабочих и для меня в том числе, может быть желателен такой общественный строй, который не знает законов. Не будь законов, охраняющих современный порядок и стоящих за этими законами убийц, насильников и мучителей, не мог бы появиться палач, вешающий и жгущий людей под покровом полной безопасности, и анархист не рисковал бы быть убитым им. Не будь законов и их охранителей, я с товарищами захватил бы фабрики и мы обошлись бы без защищающих нас от эксплуатации законов, так как уничтожили бы самую эксплуатацию. Нельзя поэтому аргументировать против отрицания законов вообще ссылкой на то, что один закон может 0ыть - лучше другого или что закон улучшает чье-либо положение в основанном на законе строе, игнорируя при этом тот довод, что в обществе, совсем незнающем законов, положение этого человека не будет требовать такого улучшения. Мало этого. Мы хорошо знаем, что, если в какой-нибудь стране, для какой-либо отрасли промышленности существует закон о 8-ми часовом рабочем дне, то это означает только, что рабочие были настолько сильны, что завоевали этот 8-ми часовый рабочий день в непосредственной борьбе с хозяевами, а законодатели только облекли это завоевание в форму закона. Если нет закона о разводе, то это значит только, что сильны мужчины, для которых запрещение развода не является препятствием для внебрачных связей с женщинами; это значит только, что в данном обществе слабые женщины. Если нет, далее, закона, запрещающего смертную казнь, а есть закон, разрешающий ее, то это опять таки значит, что сильны “давящие” (по выражению Л. Н. Толстого) классы общества и слабы классы угнетаемые, которые и держатся в повиновении убийствами, совершаемыми судьями и палачами. Короче: мы знаем, что закон только записывает реальное соотношение сил и укрепляет господство сильнейших групп общества, которые всегда регистрованы; это соотношение сил наивыгоднейшим для себя образом и всегда ставили законом преграду самодеятельности слабых групп населения. Примеров, указывающих на какой-нибудь “полезный” уголовный закон, мы не нашли у серьезных писателей. Преступность и справедливость Чуть ли не важнейшим доводом на необходимость законов является безусловно ложное утверждение, что закон устраняет проявление “преступности,” раз дело идет об уголовщине, что он гарантирует справедливость в гражданских отношениях, что он устраняет властный гнет одних людей над другими. Все эти утверждения должны казаться несерьезными даже буржуазным и коллективистическим социологам. Преступление и гнет исчезают не от приказа правителей и законодателей. Их отсутствие может быть создано только условиями жизни. Справедливость опять таки не может быть предписана, а может явиться только, как следствие определенной жизни общества. И вот, сознавая более или менее отчетливо справедливость сказанного и возражая против утверждения, что закон не нужен, приверженцы этого института утверждают, что такой общественный строй, которому были бы чужды преступления, гнет и пр., невозможен. Как будто не само общежитие, не его ужасная организация, внушает людям склонность к преступлению, “лени,” разврату и т. п. Все эти заявления сводятся, в сущности, к простому афоризму, что человек — это существо, являющееся игрушкой страстей, а потому нуждающееся в угрозе муками и в муках для того, чтобы эти страсти не сделали невозможной совместную жизнь, для того, чтобы люди не обижали людей (обиды по закону, т. е. наказания—не в счет). А. Менгер, говорит, напр., следующее: “Центром каждой анархистской системы служит мысль, что для гарантии гармонического сожительства людей, даже на высших ступенях культуры, достаточна одна только беспрепятственная игра человеческих сил и страстей.” Вся эта фраза ошибочна. Центром всякой анархистиче-ской системы являются убеждения в необходимости устранить ту дисгармонию, которая вносится в жизнь насилием и глупостью закона, причем, вопрос о гарантии гармонического сожительства вообще трактуется разными анархистами неодинаково. Помимо этого, необходимо заметить, что анархисты отнюдь не носятся с игрой сил и в особенности страстей, как с чем-то, гарантирующем гармонию будущей жизни. Страсть, поскольку дело идет о том, что интересует противников анархизма, т. е. поскольку дело идет об ее проявлении, — это скоро преходящая вспышка, не всегда, к слову сказать, сопровождающаяся нарушением покоя и благосостояния других лиц. Чуть ли не аксиомой можно считать то положение, что обычная жизнь нормального человека не ряд порывов страсти, а спокойное функционирование организма, в высшей степени (во всяком случае в большей, чем у других стадных же животных), приспособленного к общественной жизни. Из слов того же А. Мен-гера можно скорее всего вывести, что именно современный общественный строй является результатом игры человеческих страстей и сил. От момента своего появления закон и поддерживающие его учреждения возникли из насилия, возникают из него в настоящее время, насилием и держатся. За насилием же как раз и стоят страсти сильных. А. Менгер начинает свою работу об анархизме следующими интересными, раз дело идет о таком выдающемся юристе, как он, словами: “Все существующие до сих пор правовые учреждения возникли из отношений, основанных на силе, и поэтому всегда имели целью заботиться об интересах немногих сильных на счет широких народных масс.” “Теория, служащая не интересам, а фактам,” — продолжает он, — “не может признать наш правовой и общественный строй продуктом воли всей нации и вынуждена признать, что этот строй первоначально возник путем насилия в интересах узких кругов населения, да и в настоящее время, в своих существенных чертах, покоится на отношениях, основанных на силе.” И вот именно про современный возникающий путем насилия и на нем же держащейся правовой строй, беспристрастный наболюдатель должен сказать, что он является результатом игры страстей властителей и игры сил. Говоря о страстях властвующих групп и их отражении в законе, можно привести бесчисленное количество примеров, но сказанное можно иллюстрировать и одним примером: закон — отражение силы и страстей более сильных мужчин, — всюду поставил женщин в зависимое от последних положение. Ссоры Вопрос о том, на чем основана уверенность, что в анархическом обществе люди будут мириться, а не больше ссориться, вызывает совершенно ясный ответ: не говоря уже о том, что длительная ссора не может считатьтся присущим человеческому обществу явлением, заметим, что анархокоммунистический строй не только уменьшит количество поводов для ссоры, так как экономическое равенство неизбежно повлияет на ослабление главнейшего мотива ссор — чувства зависти, но этот строй в экономической сфере сделает ссору бессмысленной и невыгодной. Ссоры из-за собственности (понимая под ними и преступления против последней) немыслимым в анархическом1 обществе; если же мы будем говорить о ссорах и преступлениях из-за владения, то они сведутся к исключительным случаям и, кроме того, такие “преступления” (точнее: нелепые выходки) не будут болезненно чувствоваться потере-певшим, которому коммуна (говоря на буржуазном жаргоне) немедленно возместит убыток. Говорить о ссорах из-за лучших средств производства, из-за лучшей почвы, лучших квартир и т. д. можно только, не имея понятия о коммунистическом строе жизни. В коммуне работающий орудиями труда или на плохой почве получит такой же доход, как и работающий лучшими машинами или на глубоком черноземе. Ссориться им не из-за чего. Уменьшение числа рабочих часов для лиц, занятых более тяжелым трудом, опять таки исключает такие ссоры. Производителям коммуны нет смысла, нет материального рассчета добиваться наилучших из существующих машин, но все они, как целое, и каждый коллектив заинтересованы в том, чтобы все техническое оборудование коммуны было возможно более совершенным. Стремление анархических групп к захвату лучших средств производства будет более бессмысленно и бесполезно, чем было бы стремление современных хозяев строить свои фабрики из дорогого мрамора. И, конечно, в коммунистическом обществе так же невозможно какой-либо группе или какому-либо лицу сделаться эксплуататором, как невозможно современному поденщику заработать своим трудом сотню тысяч рублей, необходимую для того, чтобы устроить свою фабрику. Нет ничего легче, как уладить вопрос о равенстве квартирного довольствия; недостатки одной квартиры могут быть компенсированы достоинствами другой, хотя бы ее простором, так, напр., квартиры теневой стороны улицы будут просторней квартир солнечной стороны. В коммуне нет материального рассчета добиваться того или иного положения в обществе, так как доход всех жителей одинаков, так как никто из них не имеет власти. Борьба за эту или иную профессию потеряет свой острый характер: несравненно более легкая возможность переходить от одной профессии к другой, гораздо большее количество свободного времени, которым можно располагать как угодно, приведет к полной бесполезности такой борьбы, которая и утратит свои несимпатичные черты ссоры и зависти. “Анархизм/’ — читаем мы у А. Менгера, — “с одной стороны, вследствие организации по группам, неизменно увеличил бы столкновения между товарищами, и с другой, — уничтожая государство, уничтожил бы и все средства к мирному разрешению этих столкновений.” Но ведь не только анархическое, но и всякое современное общество организовано по группам. В настоящее же время связь между этими группами менее сильна, чем между группами анархического строя, хотя бы потому, что в последнем средства производства будут общим достоянием, как будет им и доход общежития. Современные группы постоянно конкурируют между собой, но в анархическом строе экономическая конкуренция групп немыслима просто потому, что к какой бы группе ни принадлежал человек, он получает равную со всеми группами долю общественного прихода. Что касается до государства, то оно имеет в своем распоряжении только насильственные средства к разрешению столкновений, следовательно, это разрешение не является мирным, тем более, что место одной из спорящих сторон занимает государство, сопротивляться которому очень трудно. Анархизм же как раз признает все средства к мирному разрешению столкновений, отказываясь только от насильственного принудительного права, которое может считаться только в том смысле орудием мирного разрешения споров, в каком может считаться им и пулемет. Преступления против личности Соглашаясь с тем, что ссоры в сфере гражданских отношений будут редким явлением, настолько редким, что выдвигать против них карательные институты так же не разумно, как выдвигать их против истеричных людей, например,—нам говорят, что в обществе будущего останутся преступления, вытекающие из личной ненависти и т. д. Имеются биологические причины преступлений, говорят нам,—наследственность, врожденные инстинкты. Преступления против личности останутся и в новом обществе и “это обстоятельство,” — говорит Л. Кульчицкий, — “заставит общество будущего установить уголовный кодекс, судебно-докторские трибуналы и административные институты в целях предупреждения преступлений. Такие институты будут необходимы.” Но нет сомнения, что и преступления против личности значительно уменьшатся в новом обществе. Тесная связь между преступностью этого рода и общественным, глубоко несправедливым строем, заставляющим людей нервничать и страдать, очевидна для социолога. Преступные инстинкты (поскольку дело не идет о душевно-больных, для лечения которых не надо ни уголовных законов, ни мучителей) замрут в неблагоприятной для их проявления среде.2 Нет ни одного антисоциального института, который явился бы вечным, постоянным. Правда, люди часто не допускают и мысли, что тот или другой инстинкт исчезнет, но ошибочность такого недопущения очевидна. Правители фиджийцев, напр., не допускали мысли о том, что людоедство изчезнет. Если мы дадим их смутным понятиям современную форму, то аргумент этих людей не далеко бы ушел от следующаго: “прирожденный инстинкт заставляет есть людей; наследственность передает этот инстинкт из поколения в поколение (биологическая причина); если человек, — особенно враг, — убит и вкусен, почему не съесть его (патриотический, так сказать, и логический вывод); прямой расчет есть убитого врага или раба (экономический довод). Нечего считаться с тем, что какая-то кучка безумцев — жителей города Вираты чувствует отвращение к людоедству. Всегда люди будут есть трупы людей.” Но фиджийские князья ошиблись: фиджийцы пошли не за ними, а за жителями города Вираты и та среда, в которой они теперь живут, (между прочим привезенный в страну новый продукт — свиньи) сделали невозможным людоедство. Но допустим, что одни только душевно больные будут делать “преступления.” Мимоходом заметим, что число душевно-больных опять-таки должно уменьшиться, так как алкоголизм, сифилис, тревога по поводу необеспеченного положения, напряженная борьба за материальное благосостояние и многие другие причины таких заболеваний исчезнут в будущем обществе. Возможно, что душевные болезни, как и многие другие, вовсе не будут встречаться в будущем. Но из того, что в обществе будущего будут появляться преступники, нельзя сделать логического вывода, что об-щесгво создаст для борьбы с преступностью административные институты, судебно-докторские трибуналы да еще уголовный кодекс. Здесь совершенно не понятный логический скачек. Положим, я болен и нельзя позвать доктора, из этого вовсе не следует, что я непременно позову знахарку: ведь я убежден, что ее лечение только ухудшит мое положение. Если даже допустить то, что при каких-либо условиях мыслимы предупреждающие преступления административные институты,3 то во всяком случае они безусловно бесполезны, раз дело идет о преступлениях ревности, ненависти, страстей, вспышек, глубоко таящихся инстинктов. Никакой, даже самый идеальный, шпион-пред-упредитель ничего не предупредит в этих случаях и только отравит существование многим людям, способным по его мнению на такое преступление; более того, возможно, что он своей “предупреждающей” деятельностью натолкнет на преступление какого-нибудь слабовольного (до встречи с ним и не думавшего о преступлении) субъекта, т. е. возможно, что этот идеальный шпион бессознательно сыграет роль провокатора. Не разумнее ли будет предоставить предупреждение преступлений всему обществу, как целому? В этом случае каждый общественник будет себя чувствовать нравственно обязанным энергично защищать обижаемого; мало того, сочтет себя обязанным вмешаться каждый раз, как только увидит приготовление к преступлению или начало его. Даже простое порицание таких поступков всем общежитием будет иметь несравненно более сдерживающее значение, чем порицание той части современного глубоко антагонистического общества, которая имеет возможность высказать свое суждение. Аффекты Именно современный строй общества, все обращающий в собственность, создал и поддерживает тот инстинкт, который проявляется в аффектах ревности, влекущих за собой калечение и убийство одним из бывших влюбленных другого: “ты — моя или мой и посмела или посмел отдаться другому или другой” — такова основа этого инстинкта; “это преступление — за ним должно следовать наказание” -— таков вывод, опять таки порожденный буржуазным строем. “Ты мое дитя, — значит, мое собственное дитя, моя собственность.” А далее опять таки понятно: если моя собственность причиняет мне огорчение, как причиняет его, например, шаловливая собака, я, собственник, имею право сделать с ней то, что ни ей, если она чувствует, ни окружающим людям, если у них чутки нервы, не понравится. Но я прав, ибо пользуюсь моим правом, проявляю мое право собственности. Эту психику собственника мы подметили у многих людей несдержанных инстинктов, проявляющихся в преступлениях аффекта. Да и помимо этого, аффект, причиняющий зло другому, потому проявляется таким нежелательным для общежития образом, что само общежитие, поставив в основу своего существования закон — мучительство и закон — насилие, толкает человека на насилие, заражает его своим примером. В настоящее время ссора в значительной степени является подражанием и обострением конкуренции и до некоторой степени подражанием процессуальному и карательному праву. Общественный же строй равных, охлаждающим образом будет действовать на готовых поссориться лиц. К чему карающий трибунал, раз преступление совершено? Мстить за преступление страсти, аффекта, инстинкта — бессмысленно, не говоря уже о том, что бессовестно. Ведь аффект — вспышка инстинкта, против которой человек бессилен. Точно также, если не более, бессмысленны попытки наказанием запугать лиц, могущих сделать преступление под влиянием аффекта. Следовательно, какой же смысл иметь суд, облеченный властью наказывать, зачем нужен уголовный кодекс? Чем руководствоваться далее, определяя меру наказания, т. е. тех мучений, которым предполагается подвергнуть преступника? Да найдется ли в будущем обществе человек, который согласится мучить беззащитного, так как ничего иного не может предписать уголовный кодекс или применяющий его суд. Допустим, что найдутся все таки мучители. Как отнесется к ним общество вольных, не загипнотизированных, как теперь, людей? Как бы ни пришлось написать уголовный кодекс и для этих мучителей беззащитных, как бы ни пришлось и для них собрать трибунал, как бы ни сочло будущее общество и этих мучителей за опасных преступников. А судьи, которые приказывают мучить, ведь, в сущности, подлее и хуже, в своей роли подстрекателей, чем сами мучители, которые, в свою очередь, в тысячи раз хуже преступников аффекта, так как холодно, хладнокровно терзают людей. Что ж и судей судить? Что за нелепость получается из всего этого. К какому абсурду ведет главная посылка: необходимость (ничем, впрочем, не доказанная) наказания. Конечно, став на точку зрения человека, который уверен, что законы продиктованы богами или богинями, или на точку зрения буржуа, убежденного, что нет и не может быть лучшего общественного строя, чем данный, находясь на известном уровне интеллектуального или нравственного развития, можно думать, что всякий нарушитель закона должен быть уничтожен или наказан. Можно верить в это, но нельзя доказать правильности такого взгляда, а мы знаем, что известная степень развития допускает и такой аргумент: — “credo, quia absurdum.” 4 В обществе равных немыслимы судебно-докторские или какие угодно трибуналы, административные институты принуждения, уголовный кодекс — все это знахарство права, забыть о котором и забыть возможно скорее придется людям. “Если закон до известной степени стесняет единицу, то взамен он дает ей защиту от своеволия других единиц,” говорит тот же Л. Кульчицкий, старательно собравший доводы в защиту принудительного права; не говоря уже о том, что таким утверждением может быть оправдан всякий закон, например, закон, предписывавший четвертовать человека, оскорбившего словом коронованного идиота, не говоря о том, что таких положений или не надо писать, или их надо писать, оставаясь хотя бы на буржуазной точке зрения, с оговорками, заметим, что выставляемое положение ложно по существу. Закон не защищает тысячи европейцев от краж, ограблений, убийств и т. п. им запрещаемых деяний; он только мстит тем, кто совершил их. Теория устрашения, изолирования и т. п. настолько дискредитирована буржуазными юристами, что нет надобности возражать против нее даже тогда, когда она является перед нами в замаскированном виде, как, например, в только что цитированной фразе. Если я не убиваю, не краду и пр. и пр., если этого не делают сотни миллионов людей, то, конечно, не потому, что закон защищает граждан. В миллиардах случаев преступление не совершилось потому, что оно бесцельно (а будущий строй тем и симпатичен, между прочим, что в нем преступления будут еще бесцельнее), потому что мне, другому, третьему и т. д. противно быть преступниками (в будущем обществе это чувство обострится и охватит еще большее число людей), потому что существует обычное право, общественное мнение, осуждающее определенные поступки, потому что человек защищается, когда на него нападают, потому что его защищают окружающие и могут защитить бросающиеся на крик о помощи люди и т. д. “Быть может, только благодаря жандармам не происходит убийств больше, чем могло бы быть?” — спрашивает Э. Малате-ста, — “но большинство общин Италии, — продолжает он, — “видит полицию лишь издалека; и миллионы людей идут через горы и долы, далеко от охранительных глаз власти, так что на них можно было бы напасть без малейшего риска кары, а между тем они в меньшей безопасности, чем в самых оберегаемых центрах. Статистика показывает, что число преступников очень мало зависит от действия репрессивных мер и очень быстро изменяется с изменением экономических условий и состояния общественного мнения.” “Обыкновенно думают,” — пишет А. Кропоткин, — “что известный нравственный уровень поддерживается благодаря судьям и полиции, тогда как в действительности он существует, несмотря на их присутствие.” Мало этого и... помимо страха, у людей есть общественные инстинкты, которые мешают им делать зло ради зла и заставляют их подчиняться самым большим стеснениям только потому, что они считают их необходимыми для правильного функционирования общества. Р. Штаммлер, выставив свои доводы, о которых мы будем еще говорить, возражает против схожих с фразой Л. Кульчицкого доводов: “Я, — говорил он, — обосновываю необходимость правового принуждения не на том факте, что иначе ‘придется худо* малым и слабым, ибо заранее и для всех случаев я не могу считать этот факт установленным. Я не обосновываю правомерность правопорядка и на том, что только при нем возможен будет полный расцвет ‘истинной’ свободы каждого отдельного человека, сфера деятельности которого будет тогда совершенно обеспечена от нежелательного вторжения третьего лица. Это не согласовалось бы с историческими фактами и само по себе вовсе не могло бы быть выведено из формального правового принуждения.” Если допустить, что угроза мукой, которую предписывает закон, мешает кому-либо в ряде других гораздо более сильных факторов сделать преступление, то наряду с этим необходимо помнить, что закон создает порождающую преступность психику. И недаром применение уголовного права плодит рецедивистов. По своей прежней профессии мне постоянно приходилось говорить с “преступниками” и в них всегда поражает одна черта — полное сознание своей правоты, обусловленное исключительно тем, что преступник наказывается. “Я краду или убиваю, вы (закон, общество, начальство, потерпевший) меня в тюрьме морите. Мы равны. Мы воюющие стороны. Риском быть измученным я получаю право на преступление. Мы оба в положении продавца и покупателя и только.”5 Превращение общей тюрьмы в школу взаимного обучения технике преступлений, а одиночной в школу, вырабатывающую преступника-мсти-теля в значительной степени объясняется этой порождаемой “законным” наказанием психикой. Таким образом, присущая закону безнравственность и мучительство парализует и ту условную пользу, которую приносит, по указанному мнению, закон и обращает эту пользу в ее противоположность. Заметим к тому же, что чувство обиды, зависти, всегда остается у одной из поссорившихся сторон, а именно у той, против которой выступил закон-мучитель; в будущем обществе этот разжигающий ссоры фактор исчезнет. Буржуазные писатели и писатели-коллективисты, постоянно сбиваясь на психику вечно конкурирующего изнервничавшегося субъекта, не могут представить себе другого способа улаживания ссор, кроме мучения одной из сторон законом, точно также, как инквизиторы не могли выдумать иного способа спасения еретика, кроме его сожжения. Тем не менее, люди анархического общества знают способы мирного улаживания ссор даже на низших ступенях развития, когда инстинкты особенно сильны, когда слаба работа задерживающих центров. Возьмем пример из жизни эскимосов. У них нет писанного принудительного права, но имеется, разумеется, право обычное без какого-либо стоящего за ним принуждения. Сход эскимосов не наказывает нарушителей этого права. Обиженный созывает этот сход и рассказывает ему о нанесенной ему обиде, обидчик возражает. Сход реагирует на эти рассказы, высказывая свое одобрение или неодобрение. Этим и заканчивается ссора; обиженный чувствует себя удовлетворенным высказанной ему симпатией; обидчик может чувствовать себя пристыженным. Этот пример важен не столько указанием на то, что люди находят возможность обойтись без варварства при наличности обиды, а указанием на то, что анархо-ком-мунистический строй (эскимосы — коммунисты) даже в первобытной среде вырабатывает мирные, не имеющие ничего общего с насилием и мучительством, приемы сглаживания неизбежного при ссорах неудовольствия. Это ясно для всякого, понимающего взаимную зависимость бытия и сознание положения не нуждается в пояснениях. Смягчение нравов с еще большей силой выступит в анархокоммунистических обществах более развитых, чем дикари,6 и более владеющих собой людей. Жизнь в обществе сама по себе “естественно вырабатывает чувства и привычки, необходимые для сохранения общества,” а жизнь в обществе, чуждом угнетения, эксплуатации и той конкуренции, которая порождает эту эксплуатацию и угнетение, сильно повлияет на исчезновение антисоциальных инстинктов и привычек, порождаемых современным общественным строем. Индивидуальность Более чем неосновательным является указание, что более развитая индивидуальность создает и больше ссор. Достаточно поговорить с любым управляющим крупного промышленного заведения и он констатирует, что ссоры, а тем более драки между развитыми рабочими — редкость, и обычное явление среди серой, однородной, малосознательной массы. Возьмем гимназистов первого класса с едва проявляющейся и индивидуальностью и тех же детей в 5-6 классе уже с ярко выраженной индивидуальностью. Среди первых — ссоры и принудительное их разрешение несравненно чаще, чем между вторыми. Развитие индивидуальности нельзя смешивать с тем процессом, результатом которого является неравенство материального благосостояния, а именно последнее порождает антагонизм. В настоящее время человек, опасаясь остаться без куска хлеба, — да еще с семьей, — старается занять место в рядах эксплуататоров и, руководствуясь эгоистическими соображениями, нарушает интересы других лиц; в обществе будущего он и его близкие — всегда обеспечены. В настоящее время индивидуальностью называется его антисоциальное стремление жить на счет других; в будущем это стремление исчезнет и проявление его индивидуальности не будет грозить какими бы то ни было столкновениями с интересами окружающих. Индивидуальность сама по себе, не проявляющаяся на почве современного антагонистического общества, отнюдь не мешает людям сознавать общность интересов и не побуждает их вступать между собой в конфликт. Н. Н. — музыкант, но из этого вовсе не следует, что у него больше шансов поссориться с литератором или художником, чем с музыкантом же. Более развитая индивидуальность, осознав себя, уважает и чужую индивидуальность. Вовсе не надо и тождественной этики для того, чтобы исчезли такие антисоциальные акты, как людоедство, применение пыток в некоторых странах и т. д.; как ни мало разработаны данные массовой психологии, но все, что сделано в этой области, заставляет предполагать, что развитие индивидуальности в гармонических, не антагонистических, группах населения должно вести за собой уменьшение столкновений между людьми. Как бы ни было разнородно общество в зависимости от разнообразия труда и другой деятельности, это разнообразие не только не предполагает необходимости принудительного права, но последнее может только исковеркать новый общественный строй, превратив его из гармонического в антагонистический. Правовое государство Мы встречаемся далее еще с одной любопытной попыткой обосновать необходимость насилия — принуждения в обществе. “Если,” — читаем у Л. Кульчицкого, — “ни одна единица в обществе не может своим умом обхватить все его детали и удовлетворить их своим разумом, то необходимо разделение труда и социализация политико-общественных функций, что должно довести до создания установлений с принудительным характером, которые, как крайней мерой, могли бы пользоваться силой, чтобы принуждать граждан выполнять известные обязанности и удерживать их от некоторых поступков.” С этим положением опять таки нельзя согласиться. Если даже мы допустим, как возможную аналогию между экономическим (общественным, специальным и техническим) разделением труда и специализацией политико-общественных функций, то все таки надо помнить, что разделение труда, достинув известной степени развития, становится ярко регрессивным фактором и должно превратиться в свою противоположность — в постоянную смену занятий, необходимую для всестороннего физического и умственного развития человека, для правильного функционирования его организма (что облегчается, к слову сказать, простотой и несложностью технически разделенном работы). Экономический прогресс тесно связан с интеграцией труда, возможно благодаря его техническому разделению, а не с узкой специализацией человека-работника. Но не в этом главное возражение против цитированной фразы, а в том, что слова о принудительном характере общественных установлений включены в нее более чем произвольно. Из того, что общество естественно функционирует, как целое, вовсе не следует, что оно должно базироваться на принуждении. Политико-общественные функции в коммунистическом обществе — это такие же функции, такие же части общей работы конторщика, т. е. работы по существу своему ничем не отличной от работ любого фабричного работника, их выделение в особую группу (при условии смены занятий к тому же) отнюдь не ведет и не может вести за собой что-либо похожее на установления с принудительным характером. Группа лиц, занятая передачей заказов общества в мастерские или раздачей продуктов труда потребителям будет иметь в новом обществе столь же мало власти вообще и принудительной власти в частности, как и группа лиц, выделывающих, ну, хоть бы бумагу. Как теперь не надо принудительной власти, а достаточно чисто объективных условий для того, чтобы крестьянин, например, пахал землю, так не нужно такой власти и для всех функций коммунистического общества. Было '•ремя. когда думали, что без принудительной власти помещика крестьянин не станет работать, почему и настаивали по имя спасения человечества от голода, во имя культуры, на необходимости помещичьей власти. Совершенно ту же, ••о только немного более широкую ошибку допускают и сторонники принудительной общественной власти. Корень этой ошибки в недооценке силы объективных условий и коренная ошибка идеального полицейского государства, во всё вмешивающегося и всё регулирующего,7 отнюдь не отброшена идеологами правового государства. В анархо-коммунистическом обществе нет и не может быть таких функций, для выполнения которых потребовались бы власть и наличность принудительного права. Заметим еще, что та гипотеза, по которой разнообразные институты насилия (суд, войско, полиция и пр.) создались в силу закона распределения труда, считается нами безусловно не серьезной. Все они явились результатом насилия завоевателей и их разнообразных приемников. Все эти институты насилия были нужны именно насильникам и их приемникам, а общежития с громадной выгодой для себя могли обходиться без них. Правовое принуждение и анархизм В обширной, посвященной критике анархизма, литературе мы не находим убедительных доводов в защиту принудительного права. Не говоря уже о полемических брошюрах гг. Адлера, Плеханова, Устинова, Станислава и таких же мало подготовленных к критике анархизма лиц, заметим, что даже серьезные авторы, как, например, А. Менгер и Р. Штаммлер, не справились с этой задачей. Нельзя не остановиться, впрочем, на оригинальной и сильной попытке Р. Штаммлера найти “всеобщее значимое доказательство, что для организации совместной человеческой жизни необходимо правовое принуждение.” Р. Штаммлер, чуждый полемических приемов, готовых отдать противнику должное, делает несколько верных и глубоких замечаний: "Анархизм," — говорит он, — "восстает вообще против существования правового принуждения/’ "Теория анархизма требует порядка для человеческого общежития и стремится к гармонии общественного бытия, но порядок должен исходить не со стороны государства и юридического принуждения не должно быть вовсе.’* Он утверждает далее, что анархизм — организация человеческого общества, — возможен при помощи конвенциональных правил и делает из этого положения вывод, что, так как анархизм знает только договорное право, не может охватить “всех людей без различия, не принимая во внимание их особых случайных свойств.” Часть людей приходится принять в общество, не спрашивая на это их согласия, и в этом случае они подчиняются нормам общества, следовательно, налицо имеется правовое принуждение. Правовая организация является таким образом единственной, которая открыта для всех людей. Эта аргументация была бы убийственной для анархизма, если бы была верна ее основная предпосылка. Но эта предпосылка, гласящая, что анархическое общество знает только договорное право, не верна. Бесспорно, что такое право, в его анархическом понимании, играет важную роль, поскольку дело касается дееспособных людей, но надо помнить, что в анархическом обществе, наряду с договорным правом, имеется и обычное право (тоже в анархическом понимании, т. е. право не поддерживаемое насилием). Для дееспособных имеется обычное право, которое включает их в ряды общества и не имеет ничего общего с принудительным правом. Правовое принуждение наступает только тогда, когда против согласия человека с ним что-либо делают или его кто-либо заставляют делать (хотя бы и войти в общество). Где нет несогласия, хотя бы потому, что оно немыслимо, там нет и тени принудительного права, при том условии вдобавок, что человеку дается все, чем пользуются другие люди или даже больше (больные), или дается то, что мыслимо дать, максимум (грудные дети). Для “осуществления организации, имеющей всеобщее значение” принудительное право отнюдь не является единственно необходимым, как думает Р. Штаммлер. Этой цели еще с большим успехом может служить анархическое вечно текучее, не застывающее обычное право, ничего не требующее от недееспособных и дающее им все, что можно дать человеку, потому только, что человек имеет право на существование в равных с другими условиях. Подчеркивание анархической литературой договорного права, сравнительно редкое упоминание о праве обычном, нередко отождествляемом к тому же с общественным мнением, делает ошибку Р. Штаммлера вполне понятной. На его вопрос: “можно ли найти всеобщее значимое доказательство того, что для организации человеческой совместной жизни необходимо правовое принуждение ” надо ответить отрицательно. Попытка Р. Штаммлера, в ряде других, не нуждающихся в другом опровержении, кроме спасения анархо-коммунистического общества, может считаться чуть ли не гениальной, но, благодаря ошибочности главной посылки, она не может считаться доказательством необходимости принудительного права. Анархическое обычное право как раз и создает общество, отрешающееся от эмпирических случайных свойств личности, при чем это общество допускает, разумеется, договоры дееспособных людей, но организуемые по договору ассоциации ялвяются только частью, да и то не изолированной, анархического общества. Необоснованность принудительного права Как ни старо произведение, как ни много работали над этой отраслью знания ученые и мыслители, в их работе нет доказательств необходимости принудительного права. Выставленные ими теории они взаимно разбивали воистину уничтожающей критикой. От попыток оправдать право ссылками на его происхождение не осталось после этой критики (не говоря даже о критике анархистов) ничего ценного. Указание на то, что право есть плод народного духа, что оно является надстройкой над экономикой, техникой производства, что оно возникло путем договора наших предков, что оно продукт организма-общества, не только не дали всеобще значимого доказательства необходимости принудительного права, но и отошли в разряд не подтвердившихся и опровергнутых гипотез. Многие правоведы ограничиваются, впрочем, тем, что, исходя из факта существования права, изыскивают более или мение остроумные способы сделать возможно меньшим зло, причиняемое принудительным правом. Наконец, мы наблюдаем в работах буржуазных и социалистических ученых то любопытное течение, при котором, отыскивая зло принудительного права не в самом факте его существования, а в строении его ближайшего источника — в формах принудительной законодательной власти, — правоведы последовательно отказывались от абсолютизма, нападали на олигархию, протестовали против ограниченной подачи голосов, недовольствовались всеобщим избирательным правом, не видели спасения в пропорциональном представительстве, в референдумах и народной инициативе, но, кроме анархистов и немногих близких к ним социалистов (как близок, например, П. Л. Лавров), не решались перешагнуть Рубикон, за которым лежит полное отрицание принудительного права. Они оказались не в состоянии перешагнуть нарисованную на полу черту, как человек, получивший путем гипноза известное внушение. Между прочим, эту черту необходимо перешагнуть, хотя бы потому, что “писанные законы стоят в прямом противоречии с законами совести” (П. Кропоткин). Гипноз, в который современный строй погружает многих, даже добросовестных мыслителей, надо считать очень серьезным злом. Они не могут подняться над вульгарными понятиями, навязанными им условиями современной жизни, совершенно так же, как многие мыслители древности не могли отделаться от мысли, что культурное общество немыслимо без рабства. Нет данных думать, что появятся вообще значимые доказательства или даже просто серьезные доказательства необходимости существования принудительного права. Принудительное право, это историческая категория, которой суждено исчезнуть. В истории человечества оно сыграло роль больного нароста, если можно говорить аналогиями. Если его и можно называть необходимым, то только в том смысле, в каком можно назвать необходимым появление и наличность саркомы у заболевшего ею человека. Эту опухоль надо вырезать и помешать ее новому появлению. За принудительное право можно выставить только один аргумент, против которого невозможен спор. Этот аргумент сводится к цитированной уже фразе — “это абсурд, нелепость.” Анархическое договорное право Договорное право анархического общества будет отличаться от договорного права современного бщества, так как за ныне составляемыми договорами стоит принудительное пассивное право. Оно не только предписывает формы договоров, но и ставит в зависимость от этих форм обязанность выполнить договор. Оно не только “допускает” договоры, но и принуждает контрагентов выполнять их. Анархическое договорное право не знает этих нежелательных придатков. В его основе лежит принцип вольного соглашения, т. е. соглашения, изложенного в какой угодно форме, соглашения, которое может быть расторгнуто в любой момент, любой из сторон без опасения, что ее принудят выполнить договор или “накажут” за его расторжение. Всякое другое толкование принципов договорного права будущего противоречит принципам анархизма. Анархическое обычное право За обычным правом анархического общества опять таки не будет стоять какого бы то ни было принуждения. Главные принципы этого права намечены современной массовой психикой. Это — право на существование в равных с другими условиях, вытекающее отсюда право всех и каждого на все средства производства и существования, отсутствие какого бы то ни было принуждения. Из того, что любой договор действителен в анархическом обществе только до тех пор, пока человек считает нужным придерживаться его, логически вытекает, что каждый человек может отказаться работать с другим, а, следовательно, от совместной работы с последним может отказаться и 20 и 100, и сколько угодно человек, хотя бы все жители данной коммуны. Стараясь доказать непоследовательность анархистов и тщательно выискивая что-либо похожее на принуждение в будущем обществе, противники анархизма указывают, что анархисты будут исключать из своих вольных трудовых ассоциаций тех людей, которые не захотят работать или пожелают меньше работать, чем другие товарищи. “Раз вы их исключите, •— говорят нам, — вы признаете принуждение и поступите жестоко, так как человеку, исключенному в вашем обществе из трудового союза, некуда будет деться и он должен будет погибнуть." Этот упрек основан на недоразумении, на непонимании сущности коммунистического строя. Если бы, исключая паразита из трудового союза, анархисты обрекли его тем самым на голод и лишения, то в действиях их нельзя было бы не найти жестокости, а, пожалуй, и принуждения. Но раз этого нет, то анархисты делают только то, на что имеют нравственное право, а именно: отказываются работать, т. е. идут навстречу его желанию не участвовать в том договоре, который был заключен ими. Тот факт, что какая-либо трудовая ассоциация не жалеет с кем-либо работать, вовсе не грозит этому человеку лишениями и голодом. Так думают только лица, насквозь пропитанные современным буржуазным мировоззрением. Если бы даже для такого человека не нашлось места ни в какой трудовой ассоциации (что чересчур уже странно, раз дело идет о нормальном человеке), то никто не мешает ему взять средства производства и работать, как одиночке, так как во всех случаях в коммунистическом обществе каждый человек, только потому, что он — человек, получает предметы потребления, то ему и не грозит лишение. Допустим даже, что он совсем откажется работать, несмотря на то, что он имеет полную возможность выбрать себе занятие по вкусу. В этом случае он опять таки будет получать предметы потребления наравне со всеми другими. Для общества анархистов-коммунистов вполне приемлемо кормить таких во всяком случае ненормальных лиц. Даже анархисты-коммунисты вчерашнего дня поймут тот аргумент, что выгоднее и безопаснее для общества помещать, одевать и кормить нескольких таких бездельников, чем заводить усмиряющих и наказующих их, но уже властных бездельников, оперирующих при наличности писанного права. Последняя разновидность бездельников склонна к быстрому размножению и стремится получить больше, чем получают простые смертные. Но ведь может же в анархо-коммун. обществе появиться какой-нибудь негодяй, который будет насиловать, убивать людей, зная, что нет принудительного права? Ответ на этот вопрос очень прост: нет, не может появиться такой человек, если не говорить о буйно-помешанных, к которым и будут применяться те средства воздействия, которые укажет психиатрия, (а не принудительное право). Но допустим, все-таки, что такой человек, хотя бы в виде исключения, но все таки появится. Для его укрощения анархисты-коммунисты и не подумают заводить принудительное право и принудительные институты, которые, к слову сказать, никогда не мешали появлению таких субъектов, а только плодили их. Право самозащиты, право не писанное, конечно, останется во всей своем силе. Защищая себя и своих близких, (а близкие ему все), анархист-коммунист ответит на насилие силой, не выходя, разумеется, за пределы самообороны. Возможно даже, что такой субъект будет убит на месте при первых попытках насильничать, но пусть не подымается на него рука человека, который не уверен в том, что такой поступок будет одобрен коммуной. Взгляды анархистов-коммунистов будущего всегда одни: преступление — это случайность или несчастье, за которое не ответствен преступник. Понять — это значит простить и общество будущего всегда простит преступника. В переходное время, при наличности многочисленных анарихистов-коммунистов вчерашнего дня, мы встретимся, вероятно, с самосудом народного веча. Из двух зол — организации института принудительного права, с одной стороны, и народного самосуда — с другой, последнее зло является меньшим из двух. Что такое анархия?
Слова “анархический коммунизм” можно перевести двумя словами: “безвластие и равенство.” Слово “коммунизм” означает такой общественный строй, при котором нет частной собственности и материальные блага находятся в общем владении. Слова “анархист-коммунист” можно перевести словами “вольный общинник.” Анархия отнюдь не означает беспорядка, а тем более не означает насилия человека над человеком, хотя слово “анархия” часто употребляется вместо слова “беспорядок.” Такая грубая ошибка делается то бессознательно, то с намерением. Люди настолько привыкли к правительству, что искренно думают о неизбежности полного беспорядка в общежитии, не знающем правителей. Точно также не так давно еще люди, привыкшие к царской власти, смешивали слово “беспорядок” с понятием “республика.” Некоторые буржуазные и социалистические писатели — эти уже сознательно, — с целью опорочить анархизм, — называют анархией беспорядки современного или бывшего феодального общества, насквозь пропитанных властью. Выражаясь таким образом, они говорят неправду: скорее климат северной Сибири можно назвать тропическим, чем беспорядок этих обществ анархическим. Но, конечно, не все буржуазные и социалистические писатели так недобросовестны. “Апостол социализма”—Цезарь де Пап писал: “Анархией должны кончить мы, увлекаемые силой демократического принципа, логикой и фатализмом истории.” “Анархия — мечта всех, возлюбивших истинную свободу, идеал всех истинных революционеров. Долгое время люди клеветали на тебя и недостойно поносили тебя: в своем ослеплении смешивали они тебя с беспорядком и хаосом, в то время как, наоборот, именно правительство — твой заклятый враг — есть результат социального беспорядка, экономического хаоса. Ты — порядок и гармония, равновесие и справедливость. Тебя еще провидели пророки под покрывалом, скрывающим будущее; они называли тебя идеалом демократии, надеждой свободы, высшей целью революции, владычицей будущих времен, обетованной землей возрожденного человечества. А в нашем веке сколько мыслителей предчувствовали Твое пришествие и сошли в могилу, приветствуя Тебя, как приветствовали Искупителя умирающие патриархи. ‘Да приидет царствие Твое.’ Так говорил ‘апостол социализма\” II Общество безвластия и равенства невыгодно буржуазии, так как буржуазии нет места в таком обществе. Оно невыгодно богатой интеллигенции, хотя бы и социалистической, так как она лишится в этом обществе на более или менее продолжительное время своих больших доходов и возможности властвовать. На учения, невыгодные для богатых и властных людей, всегда клеветали. Клеветали на первых христиан, людей несравненно более нравственных, чем язычники, а в особенности, чем высшие классы языческого государства, — клеветали, называя христиан врагами общества, сторонниками беспорядка, поджигателями, развратниками, людьми, пьющими человеческую кровь и молящимися ослиной голове. В XI веке по P. X. философ Цельс, например, говорил о христианах: “Народилась новая порода людей, народилась она недавно. У них нет ни отечества, ни древних традиций, они объявили войну всем гражданским и религиозным учреждениям, их преследуют законы, их обыкновенно называют негодяями, но они кичатся общественным презрением.” Клеветали на христиан, клевещут и на анархистов. Тем не менее, достаточно снять в наше время с глаз повязку, надетую общежитию буржуазией и жадными до власти политическими партиями для того, чтобы солнце правды блеснуло ярким светом, для того, чтобы прозрели обманутые клеветой люди и поняли, что беспорядок и насилие царят как раз в современных государствах, что они неизбежны и в социалистических государствах. III Большую ошибку делают те, кто говорят об анархистах, как о грабителях и убийцах. Неверно, что анархизм это такое учение, которое советует одним людям нападать на других, отнимать у них деньги, “делать экспроприации,” как говорят в подобных случаях. Правда, были случаи, что и анархисты делали экспроприации, отнимали деньги, думая поддержать этими деньгами революционное движение. Но “экспроприации” делали не одни анархисты: их делали, например, социалисты-максималисты, их делали и лица, ничего общего не имевшие с анархистами и социалистами. Нередко бывало и так, что простые грабители называли себя анархистами и рассылали письма, под угрозой смерти требуя денег. У анархистов нет комиссий, принимающих членов в ряды сторонников анархизма, поэтому кто хочет, тот и называет себя анархистом. Но из того, что слабоумный или преступный человек назовет себя анархистом, анархизм не станет глупым или нечестным учением. Ведь и во время первого, чистого христианства в ряды христиан входили всякие люди, да и теперь сколько угодно глупцов и преступников именуют себя христианами. Борцы за обездоленное человечество давно уже заметили, что “жулики лезут” к революционерам в то время, когда последние побеждают. М. А. Бакунин, указывая на это, заметил, что “жулики” чувствуют, где может быть пожива, понимают, что может им принести выгоду и вмешиваются в революционное дело, если его можно эксплуатировать для личных целей. Конечно, он говорил также, что надо принимать меры для того, чтобы жулики не скомпрометировали революционного дела в общественном мнении. IV Анархия — это такое общество, в котором нет правителей, нет принудительной власти, нет управления человека человеком, нет тех мук, на которые отдают своих подданных правители за то, что первые не повинуются приказам последних. Благодаря отсутствию принудительной власти, анархия есть совершеннейший порядок, полное спокойствие, справедливость, единение, содружество, взаимопомощь, сострадание, даже самопожертвование в их самых красивых проявлениях. Анархия отрицает и считает вредной и унизительной государственную принудительную власть с ее мучениями, с ее ужасными тюрьмами, хуже которых не выдумал бы и собор дьяволов, с ее смертными казнями и с другими издевательствами и злодействами. Отрицая принудительную власть, анархия отрицает за государствами присвоенное ими “право” угнетать нации, чуждые господствующему населению государства. Анархия отрицает принудительную власть в семье, “право” мужа обращать жену в служанку и рабу, делая невыносимой жизнь повинующейся ему женщины. Анархия отрицает власть родителей, рассматривающих детей, как свою собственность, портящих и. мучающих их. Анархия отрицает принудительную власть хозяев-капиталистов и помещиков, дающую этим господам возможность угрозой голода и голодом заставить людей, нуждающихся в работе, повиноваться их приказам. V Ошибочными являются указания на то, что анархисты стремятся к разрушению общества. Анархисты прекрасно знают, что люди жили и всегда будут жить обществами, что людям выгодно и приятно жить в общежитии. Анархисты стремятся не к разрушению общества, а к его спайке. Они стремятся к созданию гармонического, дружеского общества вольных и равных людей. Анархисты знают, что государства, где так плохо живется массам трудящегося люда, исчезнут. Государство — это антагоническое (враждующее) общежитие, часть членов которого (правители) обладает принудительной властью, а другая (подданные) не имеет ее. Первые заставляют вторых повиноваться угрозами мучений и мучениями. Правители всегда эксплуатируют подданных путем взыскания податей и захвата разных предметов потребления. Государство является таким же страшным эксплуататором, как все капиталисты и землевладельцы, вместе взятые. В России государство брало до революции с народа столько же, сколько все другие эксплуататоры, то есть третью часть годового дохода рабочих и крестьян. Вторую треть этого дохода брали капиталисты и помещики, а всему многомиллионному трудовому народу оставалась одна треть из всего им созданного. Таким образом наши рабочие и крестьяне работали два дня в неделю на себя, два дня в неделю — на капиталистов и два дня в неделю на государство — этого эксплуататора-разорителя. Анархическое общество не будет знать податного и капиталистического грабежа, так как анархия — это гармоническое (дружное), не знающее принудительной власти общество, в котором все добросовестно, по мере своих сил, участвуют в общественном труде и все равно участвуют в пользовании продуктами этого общественного труда, то есть общество, в котором не возможны эксплуатация и угнетение одних людей другими. Анархическое общество возможно. Это признается даже социалистическими писателями-государственниками. Так, например, Фридрих Энгельс говорил: “Общественные классы должны неминуемо исчезнуть тем же самым путем, каким они когда-то явились. С ними исчезнет и государство. Общество снова организует производство на началах свободной и равной ассоциации производителей и поставит государственную машину на подобающее ей место в археологический музей, рядом с прялкой и бронзовым топором.” В 1891 году Ф. Энгельс предвидел то время, когда “новое выросшее в свободных общественных условиях поколение окончательно сбросит с себя всю государственную ветошь.” Трудно только понять, о каких это свободных общественных условиях говорил Энгельс: в государствах — даже в таких, как Коммуна 1871 года или социалистические государства России и Германии (1919 г.) — нет свободы. К. Маркс, в своей книжке о Парижской Коммуне, называя государственную власть “паразитом” говорил, что она становится совершенно излишней при коммунальном устройстве, а в своем “Частном Циркуляре” писал следующие слова: “Все социалисты подразумевают под анархией следующее: раз будет достигнута цель пролетарского движения — уничтожение классов, государственная власть, которая служит для того, чтобы держать громадное большинство производителей под игом малочисленного эксплуатирующего его меньшинства, исчезнет и правительственные функции превратятся в простые административные функции." Человечество существует не менее 100,000 лет. Предполагается, что оно только путем насилия, да и то недавно, узнало принудительную власть, развращающую как правителей, так и управляемых. Но, если насилие не доходило до каких-либо общин—потому ли, что люди жили в плохих природных условиях (например, на крайнем севере, который не привлекал к себе завоевателей) или потому, что жители таких безвластных общин сумели дать отпор насильникам, эти общины сохранили анархо-коммунистиче-ский строй. У эскимосов, например, не было никакого правительства. Не зная начальства, эскимосы живут очень мирно. У них почти что не бывает ссор. На эскимоском языке нет бранных слов. Преступления среди эскимосов чрезвычайно редки. Обидчиков или преступников обличают во время общественных празднеств и игр. Одобрение или неудовольствие со-бравшихся заменяет судебный приговор. Иногда обидчик должен удалиться от осудившего его общества эскимосов. Отсутствие ссор у эскимосов северо-восточной Гренландии поражает европейских путешественников: целый год, например, живут сто семей под одной кровлей, в общем доме и за все это время ни разу не возникает не то что драки, но и сколько-нибудь крупного недоразумения, перебранки. У караимов, по словам Лаво, не бывает драк, а самое сильное наказание ребенка заключается в том, что мать или отец брыжжет ему в лицо водою. “Алеуты, — по словам Венья-минова, прожившего в их среде десятки лет, — никогда не дерутся и не ругаются, не бьют и не бранят детей, так что и дети не умеют браниться и драться.” В этих не знающих государственной власти обществах “нет, — по словам Эн-гельгардта, — классов, сословий; у них нет злости, нет мстительности; у них отсутствует жестокость и властолюбие,” а “отсутствие жестокости, насилия и угнетения естественно связано с отсутствием чувств, являющихся послед-свием насилия — коварства, подлости и проч.” "Наги не имеют никакого правительства, не признают никого своим повелителем и смеются над подобной мыслью. Когда их спрашивают о вожде, они гордо вонзают копье в землю и говорят, что не имеют другого ‘раджи.’ Боды и джимали не позволяют себе никакого произвола по отношению к своим соплеменникам или к соседям и нисколько не воинственны. Они отказываются работать на чужих и не поступают на службу в качестве солдат, лакеев или кучеров. В общественной организации этих племен нет ни слуг, ни рабов... Ни традиция, ни религия, ни обычаи не устанавливают никакого искусственного различия между людьми. Нет сект, классов и каст; все равны по обычаю и фактически. Это равенство — не мертвая буква. “Ни в одном из известных австралийских племен, по свидетельству Эйра, не было найдено признанных начальников,” — говорит профессор Н. Зибер. До появления англичан не знали начальников и дакоты (в Америке). “Без видимых властителей, — писал об индейцах Северной Америки Шарльвуа, — они пользуются всеми выгодами благоустроенного правительства.” “Когда я жил между южно-американскими дикарями и на востоке, — писал знаменитый ученый Уоллес, — то мне случалось проживать в таких общинах, где не имелось ни законов, ни судов, ничего, кроме свободно выраженного мнения всей деревни. Здесь каждый самым совестливым образом уважает права другого, так что здесь никогда или почти никогда не случается никакого нарушения этих прав. В такой общине все приблизительно равны между собой.” У юкагиров Сибири “не признается никакого начальства и индивидуальная свобода уважается до такой степени, что даже сын не считает обязанным повиноваться отцу’* — Н. Зибер. Вот что мы читаем еще об одном неподдавшемся насилию вооруженном народе: “общественная жизнь берберов представляет нам редкий пример весьма совершенного строя, поддерживаемого без участия или вмешательства какой-либо выделенной из народа власти. Здесь все работают ручным трудом. У них не существует деления общества на знатных и незнатных, на ничего не делающих и трудящуюся массу, прокармливающую господ.” (Э. Ренан, А. Помель, по книге Л. Мечникова, И. В. Богословский, Людвиг Криживицкий и пр.) VII Коммунистические общества обыкновенно отличаются, по словам Табуриеша, — общительностью, нравственностью, мягкостью, свободным развитием чувств, не уродуемых влиянием личного интереса, сознанием собственного достоинства и вниманием к общественному мнению. Таким образом отсутствие принудительной власти в таких обществах отнюдь не влекло за собою развития преступности. У эскимосов, у алеутов в течение 50-60 и более лет не было ни одного убийства (П. А. Кропоткин). Конечно, в коммунистическом обществе нет преступлений против собственности, нет и многих других преступлений. “Хотя преступление может быть направлено и не против собственности, — писал О. Уайльд, — все таки вызывается-то оно нищетою, гнетом, упадком духа, порожденными нашей неправильной системой пользования собственностью, поэтому с уничтожением этой системы исчезнут преступления. Когда каждый член общества будет иметь достаточно для удовлетворения своих потребностей и перестанет являться конкурентом для своих соседей, у него не будет повода к столкновению с кем бы то ни было.” В будущем обществе исчезнут даже преступления аффектов ревности. Современный же строй воспитывает в человеке инстинкты собственника. “Моя жена, — говорит он,—и убивает ее, если женщина хочет быть своею, а не его.” Убивает ее потому, что государство на каждом шагу учит его насилию, потому что оно постоянно мучит и убивает за неповиновение. В обществе будущего не будет таких ужасных примеров. Исчезнет самый ужасный, самый циничный, зловещий преступник-учитель, исчезнет государство и в обществе свободных и равных создастся новая величавая, чистая этика (нравственность). В анархическом обществе самозащита не отрицается. В первые годы его существования к ней придется прибегать не так уж редко. Но у нас быстро исчезнут преступления, так как неизбежно поднимется общий уровень нравственности. У нас не будет такого развращающего учреждения, как институт холодно мстящих палачей-судей. У нас исчезнет право одних людей из мести насиловать других людей. У нас исчезнут возмутительные преступления правителей, а за ними и все преступления. В обществе равных и вольных не будет места таким чувствам, как чувства зависти, злости, не будет места таким настроениям, как покорность, холопство и пр. Нет сомнения, что среди равных людей создастся чувство глубокой справедливости. Г. Спенсер не без основания полагал, что в первобытных эгалитарных общинах господствовала “воля всех.” VIII Насилие появилось очень давно. Его корень приходится искать в попытках мужчины овладеть женщиной, при чем последняя не всегда шла на встречу таким попыткам (возраст, болезнь, беременность и т. д.), в борьбе двух мужчин из-за женщины, в защите от зверей, а позднее в охоте за последними. Таким образом подготовлялась почва для нападения на людей-мужчин. Были, конечно, и другие причины насилия. Победители-насильники захватывали сначала женщин, затем продукты труда побежденных, позднее землю и лю-дей-мужчин для того, чтобы они работали на победителей. Из этих насильников—захватчиков добычи, людей и земли впоследствии образовались правители. Появились патриархи, старшины родов, вожди, князья, цари, рабовладельцы, крепостники и т. д., и т. д. Все это насильники-правители, вторгнувшиеся в мирное общежитие равных и свободных людей. Все они всегда, но без чего-либо похожего на серьезное основание, выдавали себя за организаторов без них сложившегося общежития, все они утверждали, что без них немыслимо существование общества и все лгали. Рабовладельцы утверждали, что без них рабы перестанут работать и перемрут от голода, но люди счастливее жили до их появления и, раз только уничтожалось рабство, бывшие рабы опять-таки жили счастливее и лучше, чем при господах. Креспостники всегда утверждали, что без них крепостные сопьются, разлентяйнича-ются и погибнут, но освобожденные крестьяне работали так энергично, как никогда не работали при господах и их положение улучшалось, пока им на шею не садились новые господа. Ту же песню слышим мы от буржуазных правителей и их подручных (а вместе с тем и господ) капиталистов: “погибнет без нас общество. Не сумеют прожить без нас люди. Разбредутся, как овцы без пастыря.” Эту же песню мы слышим и от правителей-социалистов. Но, конечно, мы не погибнем, а только впервые узнаем, что называется счастьем. Всегда существовали и будут существовать биологические и экономические причины, которые сплачивали и будут сплачивать людей в общежития. Всегда существовали и будут существовать объективные условия, которые заставляли и будут заставлять людей работать и стремиться к лучшему. Как это всегда было, угнетенные и эксплуатируемые, избавившись от эксплуатации и угнетения, будут жить счастливее. Эксплуатация и угнетение людей людьми не могли бы существовать, если бы не было насилия. Раньше всех других видов насилия (мужчин против мужчин же) появилось простое насилие вооруженных людей над более слабыми или безоружными людьми. Давно уже насильники-правители сами не пускают в ход меча, но зато они создали сложные учреждения, постоянно грозящие подданным насилием и постоянно применяющие это насилие. Таковыми учреждениями (институтами) являются: войско, полиция, суд, тюремное ведомство, институт палачей и пр., и пр. Все вместе, они образуют основу государства и с их падением рухнет и государство, заменившись таким общественным строем, в котором не нужны будут вымуштрованные убийцы и палачи-судьи. Наряду со своими учреждениями постоянного насилия правители создали институты лицемерия. Таковы их школы, где истинное знание преподается только детям зажиточных родителей, да и то только в тех его отраслях, где усвоение этого знания безопасно для правителей. В остальных случаях, в особенности же в начальных школах, даются только те знания, которые полезны для предпринимателей, нуждающихся в хорошо грамотных рабочих, и для правителей, выбирающих из числа лиц, обучающихся в этих школах, низших исполнителей своих поручений. Таковы религиозные учреждения, всегда поддерживающие всевозможных правителей и прибегавшие к государственному насилию для поддержания своего авторитета. Все религии носят на себе следы страха перед насильниками. Все боги седой древности, от Иеговы и Ваала до Зевса и Тора — насильники. Даже блестящий Аполлон эллинов, впоследствии бог солнца, искусства и некоторых наук, в древности был богом насилия — богом чумы, солнечного удара, засухи, и его имя, в переводе с греческого, значит “тот, который погубит.” Даже христианская религия и та свелась к угрозе насилием (на этом и на том свете) по адресу тех, кто не исполняет ее предписаний и не повинуется правителям. Насилие пропитало всю жизнь современного общества; последнее только насилием и держится. Частная собственность на громадные участки земли, на средства производства не просуществовала бы и несколько месяцев, если бы она не охранялась насилием судей, полицейских, солдат... насилием государства. Без этого насилия, люди не позволили бы собственникам земли и капитала обкрадывать себя. Больше месяца не продержались бы на своих постах и правители, если бы они не опирались на самое свирепое, на самое беспощадное насилие. Никто не давал бы им денег-податей, никто не пошел бы служить в убийцах-солдатах, никто не согласился бы исполнять их распоряжения. Они держатся насилием и только им. Пусть они докажут нам противное. Ведь это не трудно сделать. Пусть они прогонят, хотя бы на три месяца, своих солдат, полицейских, судей. Посмотрим тогда, много ли найдется людей, которые будут им служить. X Государство — это общество, часть членов которого, хорошо организовавшись, и, опираясь на учреждения насилия и лицемерия, правит по свей воле, плохо или вовсе неорганизованной частью общежития. Пользуясь своей принудительной властью, государство опирается не на право, а на силу. Все попытки оправдать существование государства считаются нами несерьезными. Нам указывают, что люди отказываются от права по своему устраивать свою жизнь, потому что сами не могут установить мирный порядок общежития, что его устанавливает государство. Говорить о мирном порядке в наше время, перед очевидцами войны 17-ти государств, более, чем странно. Только государства могли создать такой кровавый беспорядок, ужасы которого мы переживали несколько лет подряд. Беспорядок, который могли бы внести в общественную жизнь отдельные лица, — детская забава перед кровожадным беспорядком создаваемых государствами войн. Нет мирного порядка и внутри государств, так как и в них идет борьба — вражда классов, наций, религиозных сект и т. д. Война внешняя — этот кровавый бред деспотических и демократических правителей — будет бичем, постоянно хлещущим человеческий род, и исчезнет только с исчезновением государства. Только с исчезновением государств прекратится и беспорядок классовой борьбы. Не менее слабо и указание на то, что государство является союзом свободных людей. Если бы эти слова и были справедливы, то и в этом случае ясно, что государство является не единственной формой такого союза. Но государство — это принудительное объединение рабов и рабовладельцев. Ведь характернейшей чертою рабства является работа одних людей на других, а подданные государства работают, уплачивая подати, на правителей. Рабочий люд живет в государствах в нищете, а нищета есть рабство. Не свободен тот, кому приходится вымаливать себе работу у эксплуататора. Не свободны в государстве солдаты, набираемые в армию под угрозой тяжких наказаний. Нет свободы там, где приказ правителей (их законы) распоряжается условиями жизни людей и их личной неприкосновенностью. Нам говорят, что государство мешает одним людям мучить и обижать других, мешает зловредной деятельности преступников. И это утверждение ошибочно: государства существуют в течение тысячелетий и не могли уничтожить и даже уменьшить преступность — кость от костей этих государств, порождение этих государств. Государство только мстит преступникам. И мстит так свирепо, что под влиянием его свирепости люди грубеют и делаются преступниками. Оно создало организации для мучения людей и, наряду с преступниками, терзало благороднейших из людей. Конечно, государство является примиряющей силой в той борьбе, которую угнетенные и эксплуатируемые ведут с угнетателями и эксплуататорами. Но эта примиряющая сила добивается “примирения,” уничтожая силу сопротивления людей, борящихся за справедливость, и поддерживает врагов благосостояния и свободы народной. Государство убивает взаимопомощь и губит самодеятельность, развращает и правителей, и подвластных. Такова его деятельность. Все же то, чем люди живы, создается обществом вопреки государству. “Уничтожение правительства, — пишет Э. Малатеста, -— не означает и не может означать уничтожения социальной связи, (так как) опыт многих поколений показал человеку, что его безопасность более верна, его благосостояние более велико, если он соединяется с другими лицами, (так как) кооперация, будучи постоянно необходимым условием успешной борьбы человека против внешней природы, остается причиной постоянного единения людей и развития чувства симпатии между ними, (так как) в действительности самая великая, самая общественная часть социальной жизни выполняется и ныне без вмешательства правительства. Правительство вмешивается только для того, чтобы эксплуатировать массы, защищать привилегии и санкционировать без пользы всс то, что совершается без него и даже вопреки его. Люди трудятся, вступают в меновую связь, обучаются, путешествуют, следуют, по своему желанию, правилам морали и гигиены, пользуются прогрессом науки, искусства, находятся между собою в разнообразнейших отношениях... По справедливости, это вещи, в которые правительства не вмешиваются, которые прекрасно идут, которые меньше всего вызывают раздоров и которые согласуются с желаниями всех так, что все находят в том пользу и удовольствие.” Все, что правительство делает для общества, без его вмешательства, было бы сделано более полезным или менее вредным для общежития образом. Правительство всюду вносит свое развращающее влияние, всюду вносит свой приказ, насилие, всюду старается создать для себя опору, создать иерархию, привилегию. XI Конечно, не правители создали те правила, которые сделали возможным согласное общежитие людей. “Научное изучение развития человеческих обществ и учреждений показывает , — писал П. А. Кропоткин, — что обычаи, установившиеся для взаимной поддержки и защиты, для охраны мира, обычаи, которые и дали возможность человечеству выжить в борьбе за существование среди очень тяжких природных условий, вырабатывались именно безыменною ‘толпою/ Оно убеждает нас, что так называемые руководители человечества ничего не внесли в историю, что не было бы раньше выработано обычным правом, и что они всегда стремились к одному: либо разрушить эти правовые учреждения, либо поработить их себе на пользу.” XII Приходится признать, что государства, как чего-то отдельного от правителей, не существует, что, говоря слово “государство,” мы говорим тем самым “правители,” наличность которых предполагает и подданных. По словам JI. Н. Толстого, государство — это “собрание одних людей, насилующих других.” “Останавливаясь на наблюдениях действительности, — пишет Реклю, — анархисты говорят, что государство и все, что с ним связано, представляет не нечто абстрактное, не какую-нибудь абстрактную форму, а совокупность людей, поставленных в особые условия и испытывающих на себе их влияние. Им предоставлены высшие должности, больше власти и больше содержания, чем остальным их согражданам.” Интересно, что ученые, — не анархисты, — как, например, известные государствоведы — Дюги и Иеллинек, склоняются к такому же взгляду. Иеллинек указывает, что “государство может существовать лишь через посредство своих органов; если его мыслить без них, то остается не государство, как носитель своих органов, а юридическое ничто.” А. Дюги пишет: “Если позади того, что называют органами государства, — нет ничего, то это означает, что личность государства есть чистейшая фикция. Это означает, что в действтиельности существуют лишь органы, то есть люди, которые налагают на других людей свою волю и делают это силою материального принуждения.” Государство — это правители. Государство — это “господство сильных.” XIII Правительство, насилующее других людей, само развращается и развращает подданных. Элизе Реклю был безусловно прав, говоря, что всевозможные искушения, которым подвергает правителей “занимаемое ими положение, почти фатально заставляет их падать ниже общего уровня.” И, действительно, таких злодеев, развратников и негодяев, как русские цари, например, нельзя было найти среди подданных. Глубоко развращенные правители развращают тех, кто соприкасается с ними, развращают и силой, и подкупом. Под угрозами тяжких наказаний они учат молодежь искусству убивать других людей, вербуя юношей силою в солдаты и внушая им, что убийство — дело хорошее. Они подкупают направо и налево, требуя от подкупаемых лиц определенных услуг (услуг чиновников). Они подкупают ученых, платя им жалованье, как профессорам. Они обращают часть подданных в таких холопов, которые и представить себе не могут, что значит быть свободными. Они создали судей — этих холодных палачей, страшные преступления которых заставляют содрогаться не слепого человека. Правительство, постоянно грозя насилием и насильничая, совершает самые подлые преступления над людьми вплоть до убийств беззащитных и сеет преступность. XIV Вся деятельность правителей полезна только для них самих и вредна для других жителей государства. “Но неужели все обманывались до сих пор? Ведь все считали правительство полезным и необходимым учреждением, иначе оно не существовало бы.** Но из того, например, что существуют разбойники, вовсе не следует, что разбойники полезны и небходимы. Мало этого, далеко не все считали полезным учреждением правительство. Прежде всего, не были обмануты мы, анархисты, считающие правительство вредным и ненужным. К тому же мы не одни. По свидетельству такого зоркого наблюдателя, как Л. Н. Толстой, наши взгляды разделяет весь русский народ, кроме небольшой его части, проникшейся властными инстинктами. В декабре 1899 года Л. Н. Толстой писал: “Несомненно одно: то, что в настоящее время русский народ, настоящий русский народ, вследствие совершенных и совершаемых над ним преступлений, потерял не только уважение к своему правительству, но и веру (в необходимость какого бы то ни было правительства...). Государственное устройство, которое держит, угнетает и развращает нас, не только не нужно, но есть нечто враждебное, отвратительное и совершенно излишное, ни на что не нужное/’ Человечество знало ошибки, длившиеся веками и тысячелетиями. Сотни лет люди верили, что на горе Олимпе сидят, пьют, едят, хохочут и правят людьми боги. Тысячелетиями верили египтяне, что Озирис, Тифон и другие боги внемлят их молитвам, что бык “Апис” — бог. Мало ли каким нелепостям в течение веков и тысячелетий верили люди, верили так, что рады были сжечь того, кто утверждал, что солнце не ходит вокруг земли. И в наше время люди верят в то, что правительство необходимо, верят даже в то, что может существовать хорошее правительство. XV Хорошее правительство, которым республиканцы клялись облагодетельствовать французов, которым социалисты обещают облагодетельствовать народы России, не мыслимо. Для того, чтобы правительство ежечасно не делало ошибок и тех актов, которые обычно называют злодеяниями, над ним надо поставит другое правительство, а над этим другим третье и так далее до бесконечности. Мы знаем, до какого позора пали демократические правительства современных республик. Их то злобно-мстительная, то все честное разлагающая политика по отношению к рабочим массам, их некомпетентность, тупость, злодейства бросаются в глаза всякому, имевшему возможность на месте изучать деятельность этих правительств. В демократических республиках мы видим удивительное раболепство правителей перед капиталистами. Мы встречаемся с удивительно ловким и смелым обманом народных масс, благодаря которому, выбирая себе правителей, эти массы начинают думать, что они участвуют в управлении. На самом же деле они более, чем где-либо, подчинены правителям, хотя и называются суверенным народом. И гнут же парламентские, демократические правительства этот суверенный народ в бараний рог. Только то, что своим непосредственным действием, восстаниями, нападениями, кровью вырвали у парламентских и не парламентских правителей народные массы, — только это они и получили. Только тем из полученного, что эти массы каждую минуту хотят и могут защищать открытой силой, только этим они и владеют. Но, увы! Малым владеют они! Даже буржуазные свободы во всех демократиях являются роскошью богатых. У рабочих нет даже уверенности в мало мальски прочном, хотя бы самом скромном материальном благосостоянии. А во время сильных рабочих движений, во время их подавления огнем и мечем, как это было во Французской республике в июне 1848 года и в мае 1871 года, месть республиканского правительства, обрушенная на головы восставших за свои права рабочих, была не менее ужасна, чем месть николаевской банды в 1905-1907 годах. Что же является скрепой общества? Чем оно держится, если не законами-приказами правительства? Чем держится все мироздание? Почему не рассыпались, не смешались в диком хаосе гармонические хоры звезд и планет? Люди думали, что влась “великого зодчего” — бога бросила эти гигантские огненные и холодные шары в бесконечное пространство и указала каждому из них определенный путь. В наше время стало понятным, что они пришли в состояние равновесия, что всемирное тяготение оказывается ни чем другим, как равнодействующей движений бесконечно малых — колебаний атомов, — наполняющих собою пространство вселенной. Еще легче установится равновесие — гармония между одаренными сознанием свободными людьми. “Перед нами, — пишет П. А. Кропоткин, — рисуется уже общество, овладевающее всем общественным капиталом, накопленным трудом предыдущих поколений и организующихся так, чтобы употребить этот капитал на пользу всех, не создавая вновь господствующего меньшинства. В это общество входит бесконечное разнообразие личных способностей, темпераментов и сил: оно никого не исключает из своей среды. Оно даже желает борьбы этих разнообразных сил, так как сознает, что эпохи, когда существовавшие разногласия обсуждались свободно и свободно боролись, когда никакая установленная власть не давила на одну из чашек весов, были эпохами величайшего развития человеческого ума. Признавая за всеми своими членами одинаковое фактическое право на все сокровища, накопленные прошлым, это общество не знает деления на эскплуатируемых и эксплуататоров, подчиненных и господствующих, а стремится установить в своей среде известное гармоническое соответствие не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить разнообразие, — а путем призывающей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению." С железной силой влияет на людей необходимость удовлетворять такую, например, потребность, как потребность в питании. С не меньшей силой влияет на них потребность помогать друг другу, жить в обществе, поддерживая друг друга. “Избегайте состязания, — писал П. А. Кропоткин, — оно всегда вредно для вида и у вас имеется множество средств изебжать его. Такова тенденция природы не всегда ею вполне осуществляемая, но всегда ей присущая. Таков лозунг, доносящийся до нас из кустарников, лесов, рек и океанов. А потому объединяйтесь: практикуйте взаимную помощь. Она представляет самое верное средство для обеспечения наибольшей безопасности, как для каждого в отдельности, так и для всех вместе; она является лучшей гарантией для существования и прогресса физического, умственного и нравственого. Вот чему учит нас природа; и этому голосу природы вняли все те животные, которые достигли наивысшего положения в своих соответственных классах. Этому же велению природы подчинился человек — самый первобытный человек — и лишь вследствие этого он достиг того положения, которое мы занимаем теперь.” “В действительности взаимопомощь является для всякого вида животных не только наиболее действительным оружием в его борьбе за существование против враждебных сил природы и других вражеских видов, но является также главным орудием прогрессивной эволюции. Даже наиболее слабым животным она гарантирует долговечность (и, следовательно, накопление опыта) безопасность для потомства и умственный прогресс. Благодаря взаимопомощи, виды животных, лучше других практикующих взаимную помощь, не только живут дольше других, но занимают также — каждый в своем классе (насекомых, птиц, млекопитающих) — первое место по превосходству их физической структуры и ума.” Еще раньше русский ученый Кеслер указывал, что “для прогрессивного развития видов закон взаимной помощи имеет гораздо большее значения, чем закон взаимной борьбы” (по кн. П. А. Кропоткина). А еще ранее, в 60-х годах, Н. Д. Ножин (выдающийся биолог и вместе с тем анархист) писал: “Вполне сходные друг с другом организмы не борятся между собою за существование, но стремятся, так сказать, связывать воедино свои однородные силы, свои интересы и при этом, вместо разделения труда, замечается в их отношениях только сотрудничество” (Н Д. Ножин, цит. по статье Богдановича). “Материнский инстинкт, по общему признанию, — говорит профессор И. Г. Оршанский, — есть тот основной корень, из которого выросло все дерево, высших альтруистических эмоций.” Для нас нет сомнения, что имеются и другие корни у этого дерева, но бесспорно, что и материнское чувство является одним из важных корней. Ребенок — часть организма матери, сначала неотделившаяся от него — и нельзя не любить часть своего организма, не оберегать ее от боли, несчастья. А раз появилось чувство симпатии к одному человеческому существу, это чувство может быть перенесено и на другое такое же существо и, при наличности известных условий, переносится. Солидарность в значительной степени является результатом общности происхождения. Общность происхождения, тождественность физической и психической структуры, “тождественность структур нервной и мускульной систем, — писал И. В. Богословский, — позволяет понимать собратьев рефлективно и зачастую живые существа действуют солидарно. Солидарность является скрепой общежития и, несмотря на вносимый властью раздор, не дает человечеству распасться на мельчайшие частицы, не позволяет ему обратиться в людскую пыль. Кооперация и взаимопомощь — вот что скрепляет человечество.” Первобытные люди, наши далекие прародители, об образе жизни которых мы можем судить по жизни диких племен нашего времени, отличались чувствами симпатии и доброжелательства. “Общинная стадия эволюционного развития, характеризуясь исключительно наличностью взаимных доброжелательных чувств сочленов одного и того же общежития, — говорит И. В. Богословский, — должна была создать и создала в действительности ту санкцию поведения, нарушение которой необходимо влечет за собою разложение общества.” Объединение, кооперация везде и всегда создавала и создает благоприятные условия для существования и этой животворящей способности совершенно лишена мертвящая принудительная власть государства. “Данные истории, антропологии и биологии, — говорит И. В. Богословский, — вырисовывают перед нами с очевидностью ту истину, что слабая индивидуальная жизнь в эволюционном процессе преодолевала громадные сопротивления со стороны физических (и всяких других) агентов путем воздействия на это сопротивление массой, благодаря чему создавались впоследствии условия, благоприятные дальнейшему существованию.” Объединение — кооперация и взаимопомощь — вот что вело человечество и приведет его к счастью. Из истории человечества мы знаем, что человек нормальный, всесторонний, не поглощенный хищнической деятельностью, не истощенный паразитизмом, стремится помогать себе подобным. Это стремление вытекает из естественного закона, по которому взаимопомощь в пределах вида, а иногда и нескольких видов, является могучим фактором создания лучшей жизни, как для вида, так и для личностей его составляющих. Людям свойственно пользоваться всеми приемами деятельности, могущими улучшить их жизнь (свойственно в том смысле, в каком растению свойственно тянуться к солнцу) и взаимопомощь в значительной степени определяет деятельность человека. На основе взаимопомощи слагается и крепнет общежитие. Взаимопомощь — это такая деятельность, которая стремится поставить другого члена вида в лучшее положение, чем то, в котором он находится, стремится приблизить его к положению того, кто оказывает ему помощь (кормлю голодного для того, чтобы он был сыт, как и я сыт, а потом этот человек спасает меня, когда я тону, ставит меня в положение человека, находящегося на суше) и в конечном счете, так как каждый член вида стремится помочь другому члену, взаимопомощь — это путь к полному равенству. Мы стремимся к равенству, а не шаблону. Важно, чтобы всякий человек чувствовал свои потребности удовлетворенными, при чем не важно, что взрослый или человек большего роста съест больше хлеба или возьмет больше сукна на одежу, чем ребенок или человек маленького роста. XVIII В анархо-коммунистическом обществе все средства производства и все продукты труда принадлежат всем. Нельзя отдать продукт тому, кто его сделал, так как любой продукт делается при громадном числе сотрудников. Возьмем какое-либо простое изделие — хотя бы деревянную скамейку — и укажем часть тех работников, которые участвовали в ее производстве. Работал, понятно, столяр или плотник, а раньше столяра — пильщик, который распилил бревно. Еще раньше — возчик, который привез бревно на станцию железной дороги, затем железнодорожные служащие, доставившие его в местность, где имеется лесопильный завод. Работал древо-сек, срубивший дерево, лесник, охранявший его в лесу от пожара, человек, привезший доски с лесопильного завода в мастерскую. Делая скамейку, столяр работал, распиливая доски пилою; для строганья он пользовался шерхебелем, рубанком, фуганком; для прикрепления ножек — стамезкой, киянкой, ресмусом; варил клей. При производстве деревянных частей инструментов работали другие столяры; при выделке стальных частей — слесаря-специалисты, которые в свою очередь пользовались материалами и инструментами, добытыми и сделанными другими рабочими. Клей куплен столяром в кем-то построенной лавке, отвешен приказчиком, а ранее кем-то доставлен в лавку, при чем кто-то на заводе выварил его из костей скотины, которую выростил крестьянин. Огонь, на котором разогревался этот клей, был приспособлен на службу людям бог знает когда и кем, зажжен спичкой, которую когда-то кто-то сделал и над окончательным изобретением которой трудились очень многие. Масса лиц участвовала в постройке железной дороги и ее подвижного состава, перевезшего бревно на лесопильный завод, при постройке которого, равно как и при постройке мастерской, тоже участвовало много народа. Придется далее указать на труд лиц, изобревших колеса, участвовавших в перевозке бревна и досок, на труд изобретателей инструментов и пр. и пр. Говоря короче, если бы мы исписали тысячу листов, то были бы в нашем перечислении лиц, участвовавших в производстве скамейки, почти также далеки от конца, как далеки в данную минуту. Мы не говорили еще о средствах существования, о пище, одежде и т. д., которые необходимы для работы столяра и других работников и над выделкой которых трудились люди в разных частях земного шара. Теперь спрашивается, чему равняется доля труда, вложенная столяром в производство скамейки: одной сотой или девяносто девяти сотым или какой-то другой доле общественного труда, потраченного на производство этой скамейки? На этот вопрос нельзя ответить. Можно только сказать, что скамейка, как и любой продукт, являются результатом труда бесчисленного количества людей. Право (не писанное, не принудительное) будущего общества — это не право производителя на продукт труда, а право всех членов общества на все произведенные в обществе продукты: “все работали для него по мере сил” (П. А. Кропоткин). XIX Нельзя привести ни одного логически-приемлемого довода в пользу неравного распределения общественного дохода, и с необходимостью равного его распределения соглашаются социалисты-государственники, например, проф. Туган-Ба-рановский. “Справедливая система распределения, — говорил этот профессор, — должна стремиться не к тому, чтобы обеспечить каждому рабочему его полный трудовой продукт (стремление это неосуществимо по несравнимости трудовых продуктов качественно различных видов труда), а к тому, чтобы привести распределение в возможно большее согласие с основной этической идеей социализма — идеей равноценности человеческой личности. Великий ученый — такой же человек, как и последний чернорабочий, ибо они в равной мере люди и потому должны пользоваться совершенно равными правами на жизнь. Право человека на помощь со стороны общества определяется не внешним результатом его деятельности, а его внутренней доброй волей, его готовностью служить обществу.” Положение трудящихся людей в настоящее время ужасно. Но, если бы даже это положение было сносным, все таки современный общественный строй должен быть заменен лучшим, так как покоится на глубоко несправедливых, бесчестных основах. Основное зло современного общества — это насилие, породившее, а затем поддерживающее институт принудительной власти. Как собственность, так и принудительная государственная власть должны исчезнуть. Тем не менее, равной с другими людьми долей дохода каждый человек будет пользоваться таким образом, как это ему заблагорассудится. XX Собственностью называется право пользоваться и злоупотреблять своею вещью, поскольку это разрешается законом.8 С незапамятных времен закон разрешает собственникам злоупотреблять принадлежащими им вещами, эксплуатируя, то есть обирая при посредстве этих вещей других людей. Так, например, собственник фабрики или завода эскплуатирует рабочих, присваивая громадную долю продуктов их труда. Собственник земли в свою очередь эксплуатирует крестьян и батраков, работающих в его хозяйстве, или крестьян, арендующих его землю. Собственник дома эксплуатирует квартирантов, облагая их своеобразной данью — платой квартиры. Купец — собственник товаров — эксплуатирует приказчиков и покупателей, плохо оплачивая труд первых и продавая вторым товары много дороже себестоимости и т. д. и т. д. Первым собственником был человек, злоупотребивший оружием, которое служило ему для защиты от зверей и охоты и направивший это оружие против другого человека. Собственности противопоставляется нами владение вещами без права злоупотреблять ими. Владелец вещи пользуется ею для удовлетворения своих потребностей или потребностей своих близких и даже дальних, никого не эксплуатируя и не обирая. Такое владение вещами или “держание” вещей наблюдалось, как обычное владение, до появления собственности и будет существовать, как такое же явление, и после уничтожения собственности. Более чем понятно, что частная собственность на вещи, или собственность государственная, или собственность какой-либо группы людей, хотя бы и синдиката, по существу ничем не отличаются одна от другой и все равно не приемлемы анархистами-коммунистами. Отцом собственности является насилие, захват. В собственность захватывались люди, земля, всевозможные вещи. Римское право, лежащее в основе всех современных законодательств так называемых цивилизованных стран, видело основу собственности в военной добыче, — другими словами, собственность считалась следствием насилия, т. е. злоупотребления, а далее являлось и причиной разнообразных злоупотреблений. Римское право, право захватчиков-завоевателей, и вытекающее из него право современных государств, если и считается с подобием справедливости, то только при дележе добычи, будь то подати, прибыль, процент и проч. Это — “справедливость” разбойников, делящих добычу. Все современное право (законы) — это охрана “добычи” и указания, как делить ее. В разное время то одни, то другие вещи являлись вещами, которыми было очень удобно и выгодно злоупотреблять. Таким образом собственностью стало оружие, потом рабы, потом земля, потом всевозможные средства производства, в том числе фабрики и заводы со всем их оборудованием, а также и средства потребления — дома, товары. Для того, чтобы собственность—право злоупотребления вещами, — могла существовать, необходимо не только породившее ее насилие, но и насилие, мешающее прекратить это злоупотребление. Современное государство — государство собственников и насильников — организовало для поддержки собственности разные учреждения непосредственного насилия — войско, полицию, собрания законодателей и проч. Если бы насилие и его учреждения перестали действовать, если бы угроза насилием не тяготела бы над людьми, то собственность исчезла бы, очистив место владению вещами. Собственность на землю, на средства производства, перевоза и торговли, на сдаваемые под квартиры дома и пр. в разумно сложившемся общежитии заменится общим достоянием. Общее достояние — институт обычного и договорного (в анархическом понимании этих слов) права не имеет в существе своем чего-либо общего с институтом собственности. Это, во-первых, равное (для всех могущих и желающих) право пользоваться всеми принадлежащими средствами производства при наличности равных условий труда и, во-вторых, в своем полном развитии это—равное для всех людей право пользоваться продуктами общественного труда. Вещи, принадлежащие всем, тем самым никому в отдельности не принадлежат. Это — ничьи вещи, как ничьим является, например, воздух. Ничьими “вещами,” имеющимися в ограниченном количестве, являются в настоящее время простые дороги, улицы, площади и в некоторых случаях вода. Слова “ничьи вещи” употребляются нами не в том смысле, что их нельзя захватывать в собственность, как нельзя, например, захватить звезды, которые, еслиб это было возможно, давным давно попали бы в число предметов священной собственности (ведь дворянство, духовенство и короли пытались уже захватить в средневековой Европе в собственность ветер). Ничьи вещи будущего не имеют ничего общего с ничьими вещами римского права, которые становятся собственностью первого захватившего их человека. Важно как раз то, что никто не может завладеть ими. Они — ничьи не потому, что их нельзя захватить в собственность, а потому, что такого захвата не допустит общежитие, общественное понимание справедливости. Ничьими вещами нельзя злоупотреблять, как злоупотребляют собственностью. Никто не сможет, раз средства производства станут ничьими вещами, заставить платить за пользование ими. Здесь немыслимо также пользование этими вещами одной группой в ущерб другой группе лиц. Нельзя, например, обратить (как это делают теперь английские лорды) часть земли в место для охоты в то время, когда ее надо засеять хлебом во избежание нехватки последнего. Ничьи вещи — не отчуждаемы. Здесь немыслима купля-продажа, заклад, аренда, отдача в обработку наемникам и прочее. Немыслимы при учреждении ничьих вещей заработная плата, прибыль, процент, арендная плата, гонорар. Мыслим только общественный доход, равномерно распределяемый между членами общества. Трудящийся будет, разумеется, пользоваться средствами производства и только до тех пор, пока он ими пользуется, они и принадлежат ему, но не как собственнику, а как производителю, работающему при их посредстве. Ведь и современный рабочий пользуется при работе чужой, не принадлежащей ему на праве собственности машиной. Если человек перестал работать, то есть пользоваться средствами производства, при их посредстве может начать работать всякий желающий. Труд при посредстве каких-либо средств производства — при условии существования ничьих вещей — не создает для трудящихся права собственности на них. Он дает только право пользоваться ими как раз в течение того времени, пока этот труд продолжается. Более чем ясно, что в будущем обществе каждый будет пользоваться всевозможными предметами непосредственного потребления, не нанося таким пользованием ущерба другому, не беря больше, когда другой получит, благодаря такому захвату, меньше. XXI Вся история возникновения старинных и новых предпринимательских и ссудных капиталов — это сплошная история насилия, обманов, разрухи, вносимой накоплявшими капитал лицами, история несдержанной растраты общественных производительных сил. Предпринимательское хозяйство имеет свои корни в старинном насилии ныне опять таки поддерживается учреждениями насилия. К. Родбертус Фон Ягецов, — глубокий знаток древней экономической жизни, выясняя возникновение современного “несправедливого договора между работником и капиталистом,” — говорит следующее: “Первоначально даже и не было вовсе никакого договора, а просто одна сторона была сильнее другой и принуждала ее на себя работать: собственник присвоил себе самого рабонтика, как будто бы он был простым орудием: он исключил его из числа людей, поставив его в одно положение со своими быками и лошадьми и кормил его, лишь сколько требовалось, чтобы он мог изготовлять для него, собственника, все более и более совершенные орудия. Затем, когда работник выучился изготовлять эти последние, а у собственника трудом этого самого работника образовались уже значительные запасы хлеба, тогда собственник отпустил работника на свободу, но отпустил его с пустыми руками и милостиво согласился давать ему попрежнему кусок хлеба, уже не в виде рабьего корма, а в форме “заработной платы,” основанной на ‘свободном договоре.’ Работник вынужден был согласиться на такой договор, п. ч. вся земля кдугом,—как обширные некультивированные пространства, так и тот клочек земли, на котором работник издавна производил хлеб и для себя, и для собственника, — была объявлена принадлежащей этому последнему. Собственник мог настаивать на своем исключительном праве, потому что был сильнее. Работнику пришлось подчиниться силе *в интересах порядка и общественного спокойствия/ а затем голод заставил его согласиться на рабочий договор, отдавший в руки собственника все плоды его труда.” Таково краткое, но очень верное, изложение происхождения капитала, изложение, сделанное великим ученым. Как далеко это от рассказов про организаторские таланты, создавшие классы эксплуататоров, от рассказов о том, что развитие производительных сил выдвинуло на экономическую арену этих грабителей. В начале “голод, насилие,” а не “таланты” или “способности,” не “опыт” или “знания” поставило одних людей над другими, сделало одних людей работниками других. Далее, необходимость подчиняться силе создала те взаимоотношения людей, которые сплошным, меняющим только свои оттенки мрачным цветом окрасили всю историю человечества. Ход накопления и воспроизведения капиталов в достаточной степени известен, поэтому мы остановимся на нем только в нескольких словах. Мы знаем, что захваченные капиталистами средства производство, воспроизводимые трудом постоянно эксплуатируемых рабочих, растут количественно и качественно. Росший, как катящийся с горы снежный ком, как масса, к которой постоянно приставали кристаллы труда, капитал переходил, путем всяких мирных и насильственных отчуждений и передач, от одних поколений собственников к другим и снова непрерывно растет, при чем к группе его владельцев присоединяются новые лица, накопившие денежный капитал, хотя и вне непосредственной эксплуатации своих наемных рабочих, но все же путем эксплуатации трудящегося населения. Первоначальные источники современных крупных богатств очень мутны. Они сводятся к насилию и к разного рода обманам. Захват добычи, захват людей в рабство, торговля рабами, набег, морской разбой обогащали насильников. Древняя и недавняя еще торговля, положившая начало многим капиталам, была сплошным хищением, обманом, насилием, особенно, когда дело шло о торге с иноплеменниками. История английской торговли и русской (в Сибири) может служить прекрасным примером к только что сказанному. Торговые и колониальные войны, грабеж колоний чиновниками и правительствами внесли, кровью и золотом, богатый вклад в историю накопления капиталов. Обогащала людей и контрабанда, а казенные подряды и поставки с их бесцеремонными хищениями способствовали созданию русских и иностранных капиталов, как способствовали в России их созданию и откупа. Громадную роль в деле накопления играли налоги, дань, подати. Правители обогащались и законно, и незаконно, примером чему служат многомиллиардные богатства наших царей и большие богатства наших крупных чиновников. Чиновники России — от бывших воевод и сибирских генерал-губернаторов до министров XX века и важных интендантов, от приказных недавнего прошлого и до чиновников “хлебных” мест, от самого низа до самого верха — то грубыми, ловкими, отнюдь не законными хищениями, то поборами, взятками, хорошо оплачиваемыми, но не требующими труда местами в компаниях капиталистов, а также биржевой игрой создавали себе состояния. Взыскание податей создавало эксплуататоров и косвенными, так сказать, путями. Правительство требовало от крестьян деньги, достать которые при натуральном хозяйстве было очень трудно. Не платить было нельзя, так как за неплатеж людей пытали, а иной раз и убивали. Таким образом люди разорялись. Вот тогда-то “организаторы” за грош покупали труд разорившихся производителей и принятые ими люди организовали то дело, за организаторов которого выдавали себя эксплуататоры. Работники ставили то или иное производство, так как этого требовала доступная им техника, и их деятельность, все то, что повелительно диктовалось техникой, рынком и проч., “организаторы-хозяева,” их прислужники и интеллигенты приписывали все это организаторским талантам эксплуататоров. В деле первоначального накопления играло роль крепостничество, расхищение земли и ее недр. Играла известную роль и рента, арендная плата за землю. Ростовщичество всех видов создавало и создает капита-листов-предпринимателей. Старая мануфактура дала средства некоторым из современных предпринимателей. Были и другие приемы обирающей трудовое население деятельности, а в последнее время податной грабеж; обирание рабочих и потребителей превзошли своим размахом все виды старого грабежа, воспроизводят новые и создают старые капиталы. Приведем, кстати, несколько интересных указаний. “Девять десятых тех колоссальных богатств, которые мы видим в Соединенных Штатах, обязаны своим происхождением, — как показал Генри Джордж в своей книге "Социальные Вопросы,” — какому-нибудь крупному мошенничеству, совершенному с помощью государства. В Европе, во всех наших монархиях и республиках девять десятых состояний имеют то же происхождение.” “Сделаться миллионером можно только таким путем,” — пишет П. А. Кропоткин.* “Это право собственности, — говорил Л. Н. Толстой, — называется даже священным правом и оправдывается обыкновенно тем, что собственность есть результат воздержанности и трудолюбивой деятельности, полезной людям. Но, между тем, стоит только рассмотреть происхождение всех больших состояний, чтобы убедиться в противном. Возникают состояния всегда или из насилия — это самое обыкновенное — или из скаредности, или из крупного мошенничества, или из хронического обмана, как те, которые производятся торговцами. Чем нравственнее человек, тем вернее он лишается того состояния, которое имеет, и чем безнравственнее, тем вернее наживает и удерживает состояние. Народная мудрость говорит, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, что от трудов будешь не богат, а горбат. И так оно было в старину и тем более теперь, когда распределение богатств уже давно совершилось самым неправильным образом. Если и можно допустить, что в первобытном обществе человек более воздержанный и трудолюбивый приобретает более невоздержанного и мало работающего, то в нашем обществе ничего подобного быть не может. Как бы воздержан и трудолюбив ни был рабочий, работающий на чужой земле, покупающий по цене, которую ему назначают, необходимые предметы и работающий чужими орудиями труда, — он никогда не приобретет богатства. Человек же самый невоздержанный и праздный, как мы это видели на тысячах людей, который пристроится к правительству, к богатым людям, который займется ростовщичеством, фабричной деятельностью, домом терпимости, торговлей вином, наживет состояние.* О роли государства в деле первоначального и современного накопления смотри книгу П. А. Кропоткина “Современная Наука и Анархия.” XXII Часть рабочих думает, что положение трудящихся масс улучшится, если социалисты станут правителями и, объявив средства производства общественно-государственной собственностью, организуют производства и будут распределять продукты между членами нового государства. Уроки жизни докажут полное бессилие правителей организовать что-либо, хотя, конечно, правители всех времен и местностей обладали силой разрушения и дезорганизации. Говорят, что в свое время появятся и организаторы социалистического государства. Появятся, когда техника окажется такой, с какой бессильны будут управиться современные организаторы. Экономическая эволюция ведет современное общество к социализму. Когда сильнее, чем теперь сконцентрируются капиталы в немногих руках, когда капиталистическое хозяйство встретится с хроническим недостатком рынков, а процент прибыли сильно упадет и т. д., тогда появятся новые организаторы-правители и устроят общество на новых началах. Когда именно пробьет этот час, точно не указывается. Весь этот процесс естественен, логичен, неизбежен, прогрессивен. Общество людей, как таковое, нуждается в организаторах и ему всегда суждено делиться на организаторов и организуемых. Раз это так, раз этот процесс прогрессивен, то в нем нет места для большой революции, устраняющей вместе с властью капитала и власть правителей. Нельзя поднять революцию для устранения организаторов. Мыслимы только малые революции для неспособных справиться с данной техникой организаторов новыми организаторами, способными организовать людей в соответствии с требованием новой техники. Малой революцией можно сменить правителей, можно в подходящий момент заменить рабовладельческий строй каким-либо другим, организаторами которого явятся, например, крепостники или предприниматели. Можно заменить предпринимателей чиновниками государства, можно даже совсем обойтись без малых революций, но нельзя уничтожить “организаторства” людей людьми, выбросить из общежития властных организаторов. Некоторые социалисты и коммунисты-государственники думают, что группа лиц, захватив власть в свои руки и начав путем насилия перестраивать жизнь на новый социалистический лад, добьется поставленной цели, начав свою деятельность чуть ли не в любую стадию капиталистического развития. Тут мы имели дело не с теорией общественного развития, а с простой верой в силу так называемых организаторов. XXIII Совсем иначе смотрят на историю человечества анархи-сты-коммунисты. Распадение безвластно-коммунистических общин началось не с момента появления 4‘организаторов,м необходимых для общежития в виду изменившейся техники, а с момента появления насильников-победителей, деятельность которых носила дезорганизаторский харак-тер. Каждый коллектив людей организовался сам собою, при взаимодействии окружающей его среды и его личного состава. Новая техника появилась только тогда, когда этот коллектив, в лице своих членов, был способен и создать ее и пользоваться ею. Для того, чтобы новая техника применялась, организаторы были не нужны. Мало того, — эта новая техника не могла появиться в коллективе, не способном пользоваться ею. И если коллектив не способен применять какую-либо технику, “организаторы” не могут научить его этому. Никакой организатор не научит обезьян пахать землю, а ведда управлять современной сложной машиной. Только теологический пережиток, заставивший некогда искать великого Зодчего — органиазтора мироздания, заставляет искать организаторов человеческого коллектива. Появление насильников-победителей и их, опиравшихся на институты насилия, преемников — появление старшин, вождей, жрецов, рабовладельцев, феодалов, крепостников, земле владельце в-поме щи ков, предпринимателей, правителей и пр. и пр. — только помешало обществу организоваться наивыгоднейшим для него образом, задержало его прогресс. Все эти лица не были, как таковые, организаторами ни в деле производства, ни в других отраслях полезной для человечества деятельности. Они организовали только захват-насилие и его институты. В области людских взаимоотношений всё ценное и полезное было выработано не вождями, не организаторами всех видов, а общежитием людей. “Наука нам показывает, — пишет Петр Алексеевич Кропоткин, что мнимые вожди, герои и законодатели человечества ничего не ввели в историю, что не было бы выработано обычным правом в общежитии. Лучшие из них лишь формулировали, санкционировали эти институты. Но большее число этих мнимых благодетелей все это время то старалось разрушить те институты обычного права, которые мешали образованию личной власти, то переделывали эти институты для своей выгоды и для выгод своей касты.” Общежития людей не нуждались в этих называемых организаторами насильниках. Они являлись чуждым, вредным, паразитическим, хищным придатком к общежитию. Сложившийся под их влиянием исторический процесс был вреден для общежития и не является неизбежным. Основываясь на строго научных данных, анархисты-коммунисты расчитывают на творчество масс, а не на обычную безтолковую и пагубную деятельность так называемых вождей. Все рассуждения о том, что переход к социалистическому строю мыслим только при большей, чем теперь, концентрации капиталов, при хроническом недостатке рынков для капиталистической промышленности и пр. и пр., не имеет в своей основе ни грамма науки, и их приходится считать отвергнутыми гипотезами. Еще более не обоснована вера в то, что какая-либо группа правителей-организаторов может по своему желанию организовать общество на желательных для них началах. В историческом процессе, понимаемом так, как это изложено немного выше, имеется место для большой революции. Ее задача — выбросить из общежития организаторов-самозванцев, а в сущности насильников, уничтожить, как ими созданные, так и могущие возникнуть, пока только мыслимые, институты насилия и дать человечеству организоваться на ему свойственных началах. XXIV Громадной и пагубной ошибкой надо считать стремление социал-демократов и коммунистов-государственников организовать общество на социалистических началах посредством государства, т. е. правителей, так как историческое учреждение нельзя заставить работать по произволу. "Нас, — пишет П. А. Кропоткин, — хотят уверить, несмотря на неудачи, что старая машина, старый организм, медленно вырабатывавшийся в течение хода истории, с целью убивать свободу, порабощать личность, подыскивать для притеснения законные основания, отуманивать человеческие умы, постепенно приучая их к рабству мысли, — каким-то чудом вдруг окажется пригодным для новой роли: вдруг яиится и орудием, и рамками, в которых создастся новая жизнь, водворится свобода и равенство на экономическом основании, наступит пробуждение общества и завоевание им будущего. "Какая нелепость! Какое непонимание истории! Чтобы дать простор широкому росту социализма, нужно вполне перестроить все общество, основанное на узко лавочническом индивидуализме. Вопрос не только в том, чтобы, как иногда выражаются на метафизическом языке, 'возвратить рабочему целиком весь продукт его труда/ но в том, чтобы изменить самый характер отношений между людьми, начиная с отношений отдельного обывателя к какому-нибудь церковному старосте или начальнику станции и кончая отношениями между различными ремеслами, городами и областями. На всякой улице, во всякой деревушке, в каждой группе людей, сгруппировавшейся около фабрики или железной дороги, должен проснуться творческий, созидательный и организационный дух для того, чтобы на фабрике и на железной дороге, и в деревне, и в складе продуктов, и в потреблении, и производстве, и в распределении всё перестроилось по новому. Все отношения между личностью и человеческими группами должны будут подвергнуться перестройке с того самого часа, когда мы решимся дотронуться впервые до современной общественной организации, до ее коммерческих или административные учреждений. “И вот эту-то гигантскую работу, требующую свободной деятельности народного творчества, хотят втиснуть в рамки государства, хотят ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей сущность государства! Из государства, самый смысл существования которого заключается в подавлении личности, в уничтожении всякой отдельной группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве одной идеи, (которая по необходимости должна быть идеей посредственности), — из этого-то механизма хотят сделать орудие для выполнения гигантского превращения! Целым общественным обновлением хотят управлять путем указов и избирательного большинства! Какое ребячество!” Всякое государство, хотя бы оно было и республикой с социалистическим правительством во главе, придерживается старинных вредных учреждений—власти и собственности. Поэтому-то всякое государство консервативно. И современное Российское государство укрепляет власть, хотя его правители искренно говорят об анархизме, как о следующем этапе освобождающегося человечества. И современное государство именно потому, что оно государство, сохраняет и не может не сохранить податную эксплуатацию человека человеком. Оно сохраняет собственность на средства производства и тогда, когда берет промышленные заведения из рук частных предпринимателей в собственность Российской республики. Казенные заводы казенными заводами и останутся, отнюдь не являясь общенародным достоянием. И современное государство своей опекой над подвластными ослабляет самодеятельность, возбуждает ложные надежды, так как переустройство общежития на вольных социалистических началах посильно только миллионам голов и рук, а не властелинам, всегда бессильным в деле творчества. Тем не менее, простая справедливость требует отметить, что государство коммунистов (большевиков) проявило себя в борьбе со старыми, созданными дворянством и буржуазией формами государства — разрушительной силой. Своей интенсивной борьбой с буржуазией, проявившейся в устранении буржуазии от принадлежавших ей орудий эксплуатации, оно расчистило до некоторой степени дорогу трудящимся. Рядом революционных мероприятий, неслыханных в истории государства, оно ослабило наиболее стройного и вместе с тем наиболее мощного и беспощадного врага рабочего класса -— буржуазию. Для многих анархистов вполне ясно, что с буржуазией и ее традициями, ее духом бороться не легче, если не труднее, чем бороться с властными инстинктами. XXVI Анархисты-коммунисты отрицательно относятся к тем проектам социалистического государства, которыми, хотя и изредка, прельщают рабочих социал-демократы. Остановимся на этих проектах в немногих словах, заметив, что коммунисты-большевики организуют в России социалистическое государство, но смотрят на него почти исключительно, как на машину для сломки государства буржуазного типа, на место которого в более или менее отдаленном будущем станет анархический строй общества. Впрочем, нельзя не заметить, что Российское государство большевиков отнюдь не воспитывало, а скорее подавляло в людях те качества, которые необходимы для анархиста. Социал-демократическое государство, по существу, ничем не будет отличаться от современного государства: та же власть и та же необходимость в этой власти. Правительство необходимо там, где царит неравенство дохода. Вот почему государство будет неизбежным и необходимым в социал-демократическом обществе, не придерживающемся равенства доходов. Государство присуще обществу социал-демократическому в такой же степени, в какой несовместимо с коммунистическим строем. Гильом в следующих словах излагает взгляд Швитцгебе-ля на социалистическое государство: “Социалистический мир разделяют два великие идейные течения: одно, тяготеющее к рабочему государству, другое к федерации коммун. Нам говорят, что рабочее государство, управляемое рабочим классом, потеряет присущий буржуазному государству характер угнетения и эксплуатации и будет экономическим агентом — регулятором общественных служб. “Но всем этим управлением будут заведывать выборные, будет рабочий парламент, выбранный всеобщим голосованием, будет большинство, издающее законы для меньшинства. Рабочее государство будет обладать мощью, заставляющей исполнять закон, будет подавлять всякую попытку к мятежу: оно будет иметь правительство, вооруженную силу, полицию, суд и т. д., и средства власти, которыми будет располагать это государство, будут значительно большими, чем средства современного государства, так как в руках социалистического государства сосредоточится вся экономическая мощь. Следовательно, как личности, так и группы не будут в нем свободны.” Напрасно вместо слова “государство” подставляются слова: “пролетариат, захвативший власть в свои руки.” В “манифесте международного общества” написано К. Марксом (1864 г.): “Пролетариат должен сосредоточить орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, возведенного на степень господуствующего сословия/' “Спрашивается, — писал Бакунин, — если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому государству, например, хотя бы крестьянская чернь, как известно, не пользующаяся благорасположением марксистов, которая на низшей ступени культуры будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом..,” “Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления? Немцев считают около 40 миллионов. Неужели же все эти 40 миллионов будут членами правительства? Весь народ будет управляющим, а управляемых не будет? Тогда не будет правительства. А если будет государство, то будут управляемые, будут рабы. Эта дилемма — неразрешимая задача в теории марксистов решается просто. Под управлением народным они разумеют управление народом посредством небольшого числа представителей, избранных народом.” Социал-демократы говорят, что их государство будет иметь целью управление вещами, а не людьми. Но всякому, кто даст себе труд подумать, что скрывается за такими фразами, ясна станет вся их неправда, ясно станет, что управление вещами сведется у социалистических правителей к тому, что посредством управления вещами они будут править людьми. Ведь и теперь капиталисты правили и правят людьми только потому, чго распоряжаются вещами — средствами производства и товарами. Кто же будет правителями социал-демократического государства? На это дал откровенный ответ А. Бабель в своей речи на Ганноверском партейтаге 10 октября 1892 г. “Что же в частности касается, — говорил он, — так сильно выдвигаемого недостатка в интеллигенции, то я скажу вам, товарищи, когда придет время взять нам в руки бразды, у меня, по крайней мере, не будет страха из-за недостатка интеллигенции. Что же станет делать интеллигенция, действующая в буржуазных рядах? Не думаете ли вы, что чиновники, техники, инженеры и т. д. устроят стачку и не пожелают действовать вместе с нами, если мы им предложим приличное положение и лучшее вознаграждение? Более того, к нам придут многие тайные советники, быть может, даже министры. Бюрократия — только лишь руководительница машины. Конечно, мы эту машину устроим иначе, и тогда она будет работать лучше, чем теперь.” Чем же подменяется господство пролетариата? Господством интеллигентов и чиновников. В свою очередь Каутский рассказывает нам о социалистическом государстве будущего... Он указывает, что после социальной революции останутся крупные доходы и крупные состояния, которые пролетариат обложит очень высокими налогами. Капиталисты сохранят на другой день переворота свои предприятия и потребуют, чтобы эти высоко обложенные новым правительством предприятия были у них выкуплены. Покупать эти предприятия будут потребительные общества, ассоциации рабочих, общины, государство, но социал-демократы будут стремиться к тому, чтобы большинство принадлежащих капиталистам предприятий перешли путем покупки в собственность государства и общин. Рабочие будут получать заработную плату, которая в первое время особенно не повысится, но возрастет для новых поколений. “В социалистическом обществе, — продолжает Каутский, — могут существовать рядом друг с другом самые разнообразные формы предприятий: бюрократическое, трэд-юнионистическое, кооперативное, единоличное; самые разные формы вознаграждения работников: постоянное жалование, повременная плата, поштучная плата, участие в выгодах от сбережения сырья, машин и т. д., участие в выгодах интенсивного труда; различные формы обращения продуктов: контракты на поставку, покупки из магазинов государства, общин, потребительных товариществ, у самих производителей и т. д.” Конечно, в таком или ему подобном обществе принудительная власть более, чем необходима, она неизбежна. Такое социал-демократическое общество не может не быть государством. Во всех случаях, когда социалисты-государственники какой бы то ни было школы пытаются нарисовать или осуществить свое “социалистическое государство,” их фантазии и “предвидение” не идут далее описаний строя государственного капитализма, по недоразумению называемого социализмом. XXVII На страницах изданий большевиков-коммунистов и в речах некоторых из них мы встречаемся с протестами против анархистического строя, основанными на явном недоразумении. С одной стороны нам говорят, что анархисты являются сторонниками маленьких, состоящих из немногих членов, коммун, что поэтому в анархическом обществе не возможно крупное производство, а с другой—нам говорят, что анархисты хотят декретировать отмену государства. Так, например, в книге Бухарина “Программа коммунистов-большевиков,” изданной Российской коммунистической партией (большевиков), мы читаем об анархизме следующие странные слова: “Анархисты думают, что лучше всего, свободнее всего будет житься людям тогда, когда они разобъют все производство по маленьким трудовым обществам-коммунам. Набралась компания, артель в 10 человек, по добровольному согласию — прекрасно. Эти 10 человек начинают работу на свой страх и риск. В другом месте возникла другая такая артель, в третьем — третья. А потом эти артели начинают между собою входить в переговоры и соглашения; одной не хватает одного, другой другого. Понемногу они уговариваются между собой, заключают свободные договоры. И вот все производство движется в этих маленьких коммунах. Ведь анархическая коммуна — это не громадное сотрудничество людей, а кучка, которая может насчитывать даже двух человек. В Петербурге вот была такая группа 'Союз пяти угнетенных.' По анархическому учению может быть союз и двух угнетенных. Представьте себе теперь, что выйдет, если каждый пяток людей или каждая двойка начнет самостоятельно реквизировать, конфисковать и потом работать на свой страх и риск. В России найдется около ста миллионов трудящегося населения. Если бы оно образовало союзы ‘Пяти угнетенных/ так в России оказалось бы 20 миллионов (а каждый миллион — это тысяча тысяч) таких коммун. Можно себе вообразить, какое вавилонское столпотворение стало бы, если бы эти 20 миллионов коммун начали бы самостоятельно действовать.” Все сказанное от начала до конца — сплошная ошибка. Ничему похожему на сказанное анархизм не учит. Начнем с мелочи. В петроградский “Союз пяти угнетенных” входило более пяти человек. Под словами “Пять угнетенных” членами союза понималась не наличность пяти человек, а наличность пяти громадных категорий угнетенных: 1) рабочий класс, 2) угнетенные нации, 3) женщины, 4) дети, 5) личность. Вот какие обширные категории могли входить в союз пяти угнетенных, о котором Бухарин упоминает в доказательство того, что анархисты признают только маленькие коммуны. Правда, у Штирнера мы встречаемся с указанием на союз из двух человек, но выдавать учение Штирнера за учение современного анархизма так же несерьезно, как выдавать какое-либо из невозможных положений Сен-Симона за современное учение социализма или утопию Кам-панеллы за современное учение коммунизма. Кропоткин определенно говорит о величине анархических общин и говорит нечто буквально противоположное словам Бухарина. “Когда, — пишет он, — буржуазные газеты, желая быть остроумными, советуют дать анархистам особый остров и предоставить им там основать коммуну, то, пользуясь опытом прошлого, мы ничего не имеем против этого предложения. Мы только потребуем, чтобы этот остров был ‘Остров Франции* (провинция И de France), в которой находится Париж, и чтобы нам отдали нашу долю общественного богатства, сколько его придется на человека.” Таким образом, известный теоретик и учитель анархизма — П. Кропоткин требут для основания анархической коммуны два промышленных департамента Франции с городом Парижем, в котором, считая и предместья, проживает около трех миллионов человек. Еще яснее Кропоткин говорит следующими фразами: “Один какой-нибудь город, если бы он ввел у себя коммунистический строй, не распространивши его на соседние деревни, встретил бы на своем пути очень большие трудности. Ввести коммунистическую жизнь следовало бы сразу в известной области, например, в целом американском штате Охайо или Айдахо, как говорят наши американские друзья социалисты. И они правы. Сделать первые шаги к осуществлению коммунизма надо будет в довольно большой промышленной и земледельческой области, а не отнюдь не в одном только городе.*' Таким образом маленькая анархическая коммуна Бухарина в сущности — не коммуна, рекомендуемая анархистами, а коммуна, о которой он для чего-то разговаривает, и именно у Кропоткина мы встречаем указание на невозможность организовать мелкие общины: “маленькая община не может долго просуществовать,” писал он. Современной анархической коммуной будет коммуна, охватывающая весь земной шар, при чем, чем больше коммуна, тем лучше. Анархисты, конечно, не думают декретировать отмену государства. Декрет — это излюбленное орудие в руках государственников и не может быть орудием анархистов. Государство исчезнет вместе с исчезновением собственности; исчезнет тогда, когда люди убедятся, что власть правителей также не нужна, как проявляемая жрецами и священниками власть мнимых богов. Правда, Прудон говорил о декретировании отмены государства, но ссылаться на слова Прудона, говоря об анархистах нашего времени так же неуместно, как ссылаться на Кабе, говоря о современных социалистах. Говорить, что анархисты требуют разрушения государства, что они хотят смести его с лица земли, опять таки нельзя. Эльцбахер говорит по этому поводу: "Если это правильно, в таком случае учения Бакунина, Кропоткина и все другие учения, признаваемые за анархические, которые только предвидят устранение государства, нужно счесть не анархическими ” Разногласие между коммунистами-большевиками и анархистами-комму ни стами лежит и в понимании роли революции. В лице своих идеологов коммунисты-большевики утверждают, что буржуазное государство может быть сметено революцией и сметено ею в России в наше время. Государство же социалистическое умрет естественною смертью, само упразднится за ненадобностью. Мы вовсе не сторонники революционного насилия во что бы то ни стало. Если государство, в силу каких-либо невыясненных и нам неизвестных законов, отомрет, а не будет сброшено революционным взрывом, то тем лучше. Мы знаем, конечно, что революции не импровизируются, не могут быть созданы по воле даже могучих организаций. Знаем, что они вспыхивают под влиянием глубоких причин, из которых важнейшей является энергия, накопленная народной массой и не нашедшая себе исхода вне революции. Если потенциальная энергия очень велика, если она не будет потрачена на свержение государства старо-буржуазного типа, то ее стихийный взрыв может снести и государство социалистическое. И вот этот взрыв неизбежен в том случае, если ставшее ненужным государство не догадается объявить себя ненужным учреждением и “отмереть.” Заметим еще раз, что государство социалистическое может и отмереть, точнее, быть уничтоженным всенародным бойкотом, о чем по отношению ко всякому государству мечтал анархист-коммунист Л. Н. Толстой. Таким образом, мы имеем перед собой две гипотезы, которые сходны только в том, что государство считается временным, подлежащим уничтожению учреждением. Мы нередко встречаемся с ссылками на биологию с указанием на то, что в природе нет скачков, что появление новых видов происходит эволюционно, что поэтому и новый общественный строй может быть результатом только эволюции. Но не говоря о том, что биологические законы нельзя переносить на социологические явления, заметим, что революции в природе, поскольку дело идет хотя бы о появлении новых видов, более чем часты. Наблюдения Бараджа над креветками пресных вод островов Тихого океана, работы голландского ботаника де Фриз, исследования Г ранд Эйр’ом пластов каменноугольных копей, на которых можно было прочесть, как в течение более чем миллиона лет менялись виды и появлялись новые, а также ряд других наблюданий ясно показали, что природа делает скачки — революции. Едва ли не гениальный русский биолог И. В. Богословский говорит по этому поводу: “На поверку оказалось, что революции в природе едва ли менее законны и часты, чем революции в истории, и совершаются там в такой же последовательности, в какой наблюдаются они и в социальной среде” (“Развитие жизни,” 531). Невозможность революции, уничтожающей социалистическое государство, до настоящего времени научно не доказана и доказана, как кажется, не будет. Но, конечно, большая революция ничего общего не имеет с попытками заменить насильственным путем власть социалистов какой-либо иной властию. Анархисты — против таких попыток. Учение социал-демократии не научно и ошибочно. Социалисты-государственники не могут не тормозить освобождение рабочих. Тем не менее, социал-демократы пользуются в некоторых странах, особенно в Германии, успехом. К сожалению, не так уж трудно сбить с толку людей, которые чуть не все время посвящают работе для удовлетворения самых скромных потребностей. Социалистическая классовая борьба рабочих подменяется на наших глазах партийной борьбой. Правда, в последней принимают участие мало сознательные рабочие, численность которых, при проникновении в массы знания, будет уменьшаться, но часть рабочих сбивается с верного пути и начинает стремиться к совершенно ненужному и вредному для рабочих ново-государственному капитализму. Истинная классовая борьба пролетариата ведется за полное уничтожение принудительной власти, за безгосудар-ственный общественный строй. Партийная же борьба ведется за политическую власть, за усиление государства, которое и возьмет в свои руки “организацию” производства и распределения продуктов, что и наблюдается в России. От того, что хозяин Петров заменится хозяином Ивановым или хозяином Сидоровым или чиновником государства, в сущности ничего не изменится. Необходимо полное уничтожение института хозяев. От того, что один правитель заменяется другим, опять таки ничего не изменится. Необходимо полное исчезновение института власти. От того, что вместо отдельных капиталистов хозяевами будут правители социалистического государства, от того, что они назовут прибыль налогами и гонорарами за управление, рабочие не станут свободны и счастливы. Здесь говорилось уже о том, что народные массы, а не законодатели, не правители создали обычное право, которым люди руководствовались в своей общественной дея- тельности. Здесь указывалось также, что именно в безвластном обществе не было преступлений. Для ученых юристов нет также сомнения, что не закон управляет жизнью людей, что сложившаяся так или иначе жизнь вызывает, при наличности некоторых условий, создание отражающих ее законов. Жизнь не может быть переустроена на новый лад законами самых умных правителей. Если же сами люди наново перестроят свою жизнь, то описывающий такое переустройство закон может быть издан только для того, чтобы помешать дальнейшему развитию этой жизни. Мы указывали уже на попытки народных масс устроиться по своему и на стремление насильников устроиться так, чтобы жить на счет этих масс. Стремлением к вольности были запечатлены попытки народных масс устроиться по своему. Стремлением к власти, к господству характеризовались попытки приспособить жизнь общежитий к потребностям насильников-победите-лей. Народ устраивает свою жизнь, и она слагается работой на низах; люди добывали и приготовляли пищу, строили жилища, делали себе утварь и мебель, приготовляли одежду и пр. и пр. На заре истории, в основе таких работ лежало осуществившееся стремление устроиться на равных основаниях, лежало добровольное соглашение. Если людям приходилось объединиться для какой-либо цели, то им в голову не приходило ставить над собою ка-кое-либо начальство. Даже в позднейшее время, в средневековье, например, мы встречаемся с вольными городами, а раз речь идет о России, то даже с автономией концов и улиц этих же автономных городов. Новгород, например, по словам профессора Ключевского, “представлял многочисленное соединение мелких и крупных местных центров, из которых большие составлялись сложением мелких/’ Мирское, а в сущности — вечевое устройство мелких поселений долго держалось в России. Стремление устраиваться на равных основаниях сказывалось и в совместных закупках, необходимых для жителей припасов, закупках, делавшихся целым городом, который, как целое же, вел свою внешнюю торговлю (одно время Новгород, Псков). Народные массы России не раз поднимали анархические бунты против господ, усердно создававших всевозможные учреждения государственного насилия. Стремление народных масс к вольной жизни сильно в России и в настоящее время, но оно подавляется государственной принудительной властью. XXIX Анархическое общество возможно лишь в том случае, если люди перестанут облекать других людей властью для того, чтобы эти властители устраивали дела подвластных. Близким к анархическому будет устройство вольных городов и селений, о которых придется сказать несколько слов. Мы знаем, что общественная жизнь складывается в зависимости от работ на удовлетворение материальных и нематериальных потребностей человечества. В строительство этой жизни зачастую врывается правительственный приказ, поддерживаемый более или менее грубым насилием. Тогда проявления жизни уродуются: она складывается под влиянием приказа не так, как сложилась бы при естественном ходе дел. В Вольном Городе приказа нет. Нет и той силы, которая дает одним людям возможность приказывать другим; нет учреждений для насилия, нет принудительной власти; нет “капитала.” Здесь люди сами устраивают свои дела, никому не поручая их. Сами себя люди Вольного Города не обманут, сами себя не будут эксплуатировать. Свои дела люди сумеют делать лучше кого-либо за них старающегося, особенно лучше чиновников, воображающих, что они всё умеют делать, а в сущности никогда ничего хорошего и умного не делающих. Люди, сами устраивающие свои дела, всегда живут лучше людей, дела которых устраивают чужие люди, хотя бы этими устроителями и были начальники, желающие облагодетельствовать своих подданных. Во всяком случае, люди имеют право устраивать свои дела так, как хотят, и если это право отнимается у них начальниками или чиновниками, то во всяком случае к большей невыгоде подданных. Самоустройство, самоуправление в самом широком смысле этого слова, считается нами основным устоем Вольного Города, Вторым его устоем, которого не знали буржуазные государства и социалистические республики России и Германии, является полная свобода всех граждан и любого гражданина. Жителям Вольного Города, по примеру средневековых коммун, придется объединиться для того, “чтобы не позволить кому бы то ни было обращаться с собой, как с рабами и защищать друг друга от всякого произвола' ’ (п. А. Кропоткин, “Речи Бунтовщика”). Вольный Город не боится свободы своих граждан, как боятся все государства. Каждый гражданин может говорить и печатать в Вольном Городе все, что хочет. Все жители могут устраивать какие им угодно собрания и союзы. В Вольном Городе свобода не знает ограничений, потому что является действительной, не мнимой только, свободой. Третьим устоем нового общежития явится единение, содружество, артельность, “согласие,” взаимопомощь и величайшая терпимость. Наконец, безвластие. Это — четвертый, едва ли не важнейший устой Вольного Города. При наличности безвластия, когда власть и воля будут общим достоянием, когда не будет привиллегированной группы насильников, не будет людей, отнимающих у других свободу, — тогда мыслим и переход в общее достояние земли, капитала, средств образования и лечения. Наряду с этим необходимо отметить, что Вольные Города только тогда будут сильными и устойчивыми, когда они организуются на коммунистических началах. Иначе борьба бедных и богатых убьет Вольный Город. Кто войдет в Вольный Город для того, чтобы жить и работать в нем, тот тем самым получит все права и будет, если пожелает, участвовать в обсуждении и решении всех общественных дел. Выход или отъезд из города, так же, как и въезд в город, будут совершенно свободными. Только с того времени, когда будут взяты в общее достояние все земли, все источники сырых материалов, весь торговый, промышленный, перевозочный, ссудный и прокатный материал, когда будут переданы в общее достояние все средства образования, все средства лечения, когда все желающие иметь оружие для защиты против эксплуататоров и угнетателей получат его, только тогда, когда исчезнет обирающее народ и его порабощающее начальство, — люди по своему почину, не дожидаясь властных распоряжений, будут устраивать свою жизнь, в том числе и производство, на вольных социалистических началах. Вольный Город Вольный Город будет заведывать всеми своими делами, а не только теми, которыми позволяет заведывать современное государство разным местностям и городам, не только теми, которыми заведует местное самоуправление нашего времени. Вольный Город будет заведывать всеми своими доходами и расходами, ни у кого не спрашивая на то разрешения и не платя дани (податей) так называемому центральному правительству страны. Возможно, что Вольные Города образуют между собою союз, раз только не будет центрального правительства. Но возможно, что 20-30 крупных городов какой-либо страны объявят себя независимыми коммунами, Вольными Города-ми и при наличности центрального правительства. В обоих случаях такие города объединятся с сельскими вольными поселениями. Независимость от центрального правительства, если таковое существует в стране, выражается в недопущении в Вольный Город правительственной армии, правительственной полиции, правительственных чиновников, в том числе и суда. Независимость появляется и в том, что издаваемые центральным правительством (если оно существует, конечно) законы рассматриваются жителями Вольного Города, как советы, которые Вольный Город может целиком принять или целиком отвергнуть, в которые Вольный Город волен внести поправки, какие будет угодно сделать его жителям. Если Вольный Город будет анархическим общежитием, то в этом случае немыслимы какие бы то ни было законы: мыслимы только договоры между гражданами, мыслимы советы — указания инициативных групп, советы, не имеющие за собой принудительной силы. Все дела жители Вольного Города делают так, как сами желают и могут их делать, при чем обычное и вольное договорное право такого города не допустит угнетения и эксплуатации человека человеком. Если потребуется выполнить какое-либо общее дело, то его могут обсуждать все заинтересованные в нем люди, все они могут принять участие в решении вопроса, делать или не делать этого и как именно делать. Так как Вольный Город не допустит в свои пределы чиновников, т. е. лиц, повинующихся приказам выше их поставленных людей и приказывающих людям ниже их поставленных, — то все без исключения дела, затрагивающие общие интересы, будут обсуждаться и решаться самими жителями города. Общеполитические вопросы (вопросы общественной жизни, затрагивающие интересы всех горожан) будут рассматриваться на сходках квартирантов больших домов, на сходках жителей улиц, на сходках больших и небольших районов (концов, сторон, частей города и т. д.) и, наконец, на сходе жителей всего города, если город не велик. В городе будут существовать всевозможные организации и учреждения, которые по своему почину и желанию устроят жизнь города. Будут существовать в городе разные союзы, федерации, всевозможные общества, в том числе и ученые, братства, лиги, клубы, гильдии, артели, коммуны, содружества, кооперативы, корпорации, всевозможные объединения — школьные, библиотечные, театральные, фабричные, заводские, ремесленные, домовые, издательские, учительские и прочие. Люди будут организовываться, как хотят и как могут. Каждая организация будет обсуждать и решать на сходе своих членов все свои дела, а если дела будут затрагивать интересы всего города, то они будут обсуждаться на сходах горожан. В средневековых городах, свобода и самодеятельность которых погибла под влиянием государства и богачей, каждый житель решал “самостоятельно все вопросы, касающиеся не только ремесла и торговли, но и тех отраслей общественной жизни, которые позже вошли в ведение государства: обучение, санитарные меры, уголовные и гражданские дела, военная защита страны” (П. А. Кропоткин, “Речи Бунтовщика,” стр. 88). Сходы производителей будут обсуждать вопросы, относящиеся к производству, сходы потребителей будут обсуждать вопросы о распределении и о заказах продуктов; сходы специалистов — вопросы, относящиеся к их специальности. На сходы приходят все желающие совещаться о своих делах. В случае разногласия, образуется большинство и меньшинство или сход делится на две равные части. В этом случае большинство и меньшинство, а также и равные части схода поступают так, как хотят. Вольным—воля. Тем не менее, желательным считается соглашение всех ченов схода. В случае надобности, сходы будут выбирать исполнителей своих поручений, своих наказов из числа специалистов или просто из числа подходящих людей. Эти люди, являясь простыми исполнителями данных им поручений, не будут располагать принудительной властью, будут контролироваться избирателями и в любой момент могут быть отозваны с того поста, на который они были выбраны. На своих постах, раз последние не носят характера профессиональных постов, выборные люди не будут оставляемы долгое время. Наконец, эти выборные будут пользоваться таким же доходом, как и любой житель Вольного Города. Любопытно, что Лефрансэ (коммунар Парижа) говорил о комитетах таких исполнителей. Он говорил о необходимости устроить “нечто в роде комитета, исключительно выполняющего решения, принятые в народных собраниях различных кварталов Парижа, непосредственно высказавшихся по всем вопросам, каковы бы они ни были: политические, военные, административные и экономические/’ В Вольном Городе не будет государственной (или какой-либо другой) принудительной власти. Власть в Вольном Городе — общее достояние. Она принадлежит всем, а следовательно, никому в частности. V До тех пор, пока жителям Вольного Города будет угрожать нападение общежитий, не организованных на анархических началах (нападения государства), до тех пор Вольному Городу придется иметь свою армию — “войско самообороны.” Основой этой армии будут добровольческие кадры. Добровольцы будут изучать военное дело в специальных училищах. Они будут следить за всеми изобретениями в области уничтожения людей людьми. Помимо добровольческих отрядов, Вольный Город будет иметь свою милицию, понимая под этим словом не полицию, а городскую армию, в которую войдут все здоровые граждане в возрасте от 17 до 45 лет, а желающие и в более пожилом возрасте. Командный состав этой армии дается в большинстве случаев добровольческой армией, но наряду с ним будет существовать и институт городских военных комиссаров, выбранных всеми милиционерами. Комиссары могут быть сменяемы милицией в любое время, а комиссары в любое же время получат право сменять командиров, при чем комиссар обязан дать немедленно подробно мотивированный отчет о таких сменах, как милиции, так и городу. (Заметим, что существование войска, хотя бы и так организованного, будет угрозой анархическому обществу). Существование милиции обусловливается наличностью договора между гражданами Вольного Города, понимающими, что до повсеместного торжества анархии необходима и военная самозащита анархистов. Конечно, Вольный Город может допустить в свои пределы и анархистов, не признающих военной службы. Войско Вольного Города явится частью войска Федеративного Союза Вольных городов и Вольных селений, явится частью войска, защищающего все анархическое общежитие. Вопрос о том, как будет устроена милиция, будет решен в свое время жителями Вольных Городов. Возможно, что некоторыми городами будет принята и такая система организации милиции, при которой всякий рабочий союз, всякое другое объединение будут иметь свою милицию, и эти милиции, как отдельные отряды, будут входить в общегородскую милицию. * * * Что касается полиции, то таковой, как бюрократической, вооруженной организации насильников в Вольном Городе не будет. Первое время, пока не исчезнут прежние навыки, придется устроить для защиты от грабежей ночные дежурства из граждан, установить свою автомибильную и телефонную связь между ночными постами. Домовые комитеты организуют так или иначе эти дежурства. В течение дня дежурные граждане в свою очередь будут отбывать дежурства. Функции полиции благосостояния будут распределены между разными отделами общественных служб, городскими учреждениями и добровольческими организациями. * * * Едва ли не единственно возможной формой суда (раз суд будет существовать первое время) явится такая форма, при которой обвиняемому будет предоставлено право выбирать из граждан города столько же судей, сколько пригласит для разбора его дела обвиняющая сторона или представители Вольного Города. Наибольшим наказанием, назначаемым таким судом, будет изгнание или бойкот, не обрекающий, впрочем, человека на смерть от лишений. По делам разных учреждений, поскольку они касаются внутренних взаимоотношений, создадутся, быть может, свои суды, созданные договорным правом — суды этих учреждений. Возможно, что в самом скором времени надобности в суде не будет. Нет, например, суда в примитивно анархических общинах севера. В современной громадной анархокоммунистической общине духоборов (около 10,000 человек) суда нет, так как духоборы не совершают преступлений. У духоборов совершенно отсутствует какая бы то ни было организация, напоминающая собою современный суд, и какие бы то ни было наказания” (М. И. Туган-Баранов-ский, “Величайшая в мире коммунистическая организация,” стр. 32). * * * Вольный Город устроит свои школы и учреждения для образования и самообразования. По соглашению с другими местностями России, Вольный Город возьмет в свое заве-дывание высшие учебные заведения и, при помощи других городов и селений, поставит дело высшего образования, предоставив высшим учебным заведениям необходимую для них автономию. Нечего и говорить, что всякий желающий может заниматься в Вольном Городе преподаванием. Свои библиотеки, музеи, картинные галлерии, театры, кинематографы и прочее Вольный Город сделает общедоступными. * * * •1 Если какой-либо город очень велик, он может распасться на несколько небольших городов (районов, концов, секций и т. п.). Каждый такой район-город будет устраивать свои дела, как их устраивают Вольные Города, и войдет в самую тесную связь с другими районами во всех тех случаях, когда это понадобится. Такие районы (смежные Вольные Города) должны быть небольшими для того, чтобы все взрослое население могло собираться на общий сход, на вече. В каждом районе все дела будут обсуждаться вышеуказанным порядком, и уполномоченные граждан будут получать от них точные наказы. Город является, таким образом, федерацией больших и малых созданных для всевозможных общественных и личных целей организаций, находящихся в границах данного городского поселения. Все эти организации будут объединяться между собой так, как найдут нужным, при чем эти объединения вовсе не обязаны придерживаться границ города, а будут, в случае надобности и желания их членов, выходить далеко за его пределы. Вольные Города целой страны, а затем и нескольких стран, в свою очередь, образуют свои союзы, свои федерации, при чем свяжутся, как с федерациями деревень, так и с отдельными деревнями. Таким образом, сложится Общерусский Союз Вольных Городов и Вольных Деревень, а далее Общеевропейская, а еще далее и Всемирная Конфедерация вольных поселений. VI Вольные Города будут тяготеть к созданию всемирной конфедерации. Так как союзы граждан таких городов, говоря словами П. А. Кропоткина, будут “врезываться друг в друга,” переплетаться между собой, то, образуя сеть таких соединений, они еще теснее свяжут Вольные Города в союз: тысячами неразрывных нитей свяжется каждый Вольный Город с сотнями других Вольных Городов по делам экономики, политики, образования, искусства, лечения и пр. и пр. Так сложится вольное народоправство. Большая воля, свобода, то-есть полное удовлетворение потребностей в безопасности, равно как и претворившаяся в учреждения солидарность — будут правилом политики общежития, на которых и создастся грядущее общежитие. * * * Как Вольные Города, так и учреждения Вольных Городов сложатся на началах обычного права и вольного договора, за которыми не будет стоять принуждения. Выход из Вольного Города и любой его организации будет свободен, и отказывающийся от соблюдения договора коммунар имеет право на получение от Вольного Города необходимых для первого времени средств существования и нужных средств производства. Каждый будет трудиться по мере своих сил и способностей, столько часов в неделю, сколько каждый другой гражданин, и каждый получит нужные ему продукты, никого не обездоливая захватом излишнего. Вольный договор, организуя производство и распределение продуктов, не затронет сферы индивидуальной жизни, не навяжет свободной личности каких-либо принудительных норм. Хотя вольное право Вольного Города не при- знает насилия большинства над меньшинством или меньшинства над большинством, тем не менее или, вернее, именно поэтому—каждый гражданин имеет право самозащиты. Наряду с этим в Вольном Городе не будет произвола, не будет и насилия правителей. * * * Вольный Город будет управлять теми имуществами, которые горожане пожелают сделать городскими, и имеет право произвести у себя коммунизацию захваченных отдельными лицами и по высшей справедливости трудящимся принадлежащих — промышленных, торговых, перевозочных и других предприятий, составляющих в социалистических государствах собственность разных эксплуататоров. Все жилые дома Вольный Город объявит принадлежащими всему общежитию. Квартиры равномерно распределятся между жителями, и управление домами перейдет к сходам квартирантов, объединениям этих сходов и уполномоченным этих сходов. Вольный Город будет строить жилые дома и нежилые помещения. Ремесленники небольших мастерских устроятся в Вольном Городе следующим образом: они потребуют, чтобы под ремесленные мастерские были отведены большие мастерские (помещения бывших и ставших ненужными магазинов, присутственных мест, большие квартиры и проч.). В эти помещения будет передаваться из городских складов все, что надо для работы: инструменты, небольшие машины, которыми пользуются ремесленники, необходимые материалы. Эти мастерские надо будет снабдить необходимою мебелью, освещением, топливом. В эти новые просторные мастерские ремесленники и будут приходить работать, но конечно, те, кто пожелают работать на дому, могут это делать. Рабочие фабрик и заводов будут работать вольными артелями. Сходы мастерских, союзы рабочих, фабрично-заводские комитеты, всевозможные технические и т. п. комиссии будут вести дело производства разных продуктов. Вольный Город по указанию своих промысловых союзов и фабрично-заводских комитетов будет оптом приобретать не приготовляемые в его пределах средства производства, в том числе железо, каменный уголь, дерево, кожи и проч. Вольный Город громадными партиями будет покупать съестные припасы для своих жителей — главным образом хлеб, мясо, овощи, молоко и т. д. П. А. Кропоткин рассказывает, что вначале вольные города средневековья сами закупали все пищевые продукты для потребления горожан. В Венеции, например, город покупал, а его “кварталы” рассылали по домам то, что приходилось на долю каждого. “Город, именно город, а не частные лица (Господин Великий Новгород в России) снаряжал корабли и посылал караваны для торговли с отдаленными странами, а барыши от торговли доставались не отдельным купцам, а опять таки всему городу. Город же покупал нужные для жителей припасы.” Вольный Город сумеет взять в свои руки и сбыт изделий. Возможно, что обмен и распределение продуктов будут организованы следующим образом: из складов, в которые будут передаваться (из мастерских и из города) материалы, инструменты, машины и т. д., мастерские будут получать всё, что требуется для работы. Если в складах не хватит каких-либо средств производства, то заведующие складами, исполняя поручение рабочих союзов, закажут недостающее соответствующим мастерским или выпишут, что требуется из города. Из складов, в которые будут передаваться (из мастерских и из города) необходимые для личного потребления и домашнего обихода предметы, все нужное для жизни будет развозиться по магазинам и лавкам, находящимся в разных частях города. Город будет разбит на небольшие районы с приблизительно равным числом жителей. В каждом таком районе будут открыты магазины для разных товаров. В эти магазины и лавки районов надо будет посылать из главных складов приблизительно по равному числу продуктов и предметов. Если в районах будет не поровну жителей, то предметы и продукты надо будет посылать по числу живущих в районе мужчин, женщин и детей. Жители районов разобьются на тысячи, тысячи на сотни, сотни на десятки и будут поровну на каждую тысячу или сотню брать из складов все, что надо. Все эти тысячи и сотни будут заказывать то, что надо магазинам, а магазины прямо (или через склад) сделают эти заказы рабочим союзам. Каждая тысяча или сотня (каждый человек в этой сотне или тысяче) может заказывать, кроме предметов обычного потребления, всегда имеющихся на складах, все, что пожелает. Дело центрального склада следить за тем, чтобы заказы каждой тысячи, каждой группы, имеющей одинаковое количество мужчин, женщин и детей опреленных возрастов, требовали приблизительно одинаковое количество труда. Тем не менее ясно, что одна тысяча может заказать больше конфект, а другая более перчаток или карандашей. Впрочем, жители Вольного Города могут устроить свою промышленность на других основаниях: необходимо только одно, чтобы сами работающие вели дело производства и чтобы доход делился между жителями Вольного Города приблизительно поровну, по потребностям. Вольный Город обеспечит, конечно, (дав то же количество продуктов на каждого, что и любому гражданину) не могущих работать — увечных, старых, больных, и Город будет отцом и матерью для всех сирот. * * * Необходимо подчеркнуть, что анархисты-коммунисты, хорошо зная преимущества общего вольного труда, будут применять его, но они ничего не будут иметь против того, кто захочет работать, как одиночка. В силу необходимости богатое коммунистическое общежитие не будет мешать людям, желающим работать в одиночку, хотя бы труд их и не был особенно производителен. Основным неписанным правом будущего анархического общежития будет правило — “вольным—воля/' и все будут равными и вольными в этом обществе. Только сам народ в своих вольных народоправствах может выковать свое счастье, свалив всякую власть, хотя бы и социалистическую, уничтожив всякий капитализм, хотя бы и государственный. Самодеятельностью, надеясь только на самого себя, а не на правителей, не на хозяев, народ добьется большей воли и светлого счастья для всех не угнетенных, не эксплоатируемых, вольных и независимых людей. XXX Говоря о производстве продуктов, необходимых для жизни человечества, можно смело утверждать, что рабочие сумеют произвести всё без капиталистов, которые не только не помогают, а мешают выгодной для общежития организации производства, так как думают только о своей пользе. Все указания о необходимости поднять умственный и нравственный уровень народных масс для того, чтобы они могли устроиться на вольных и равных началах, то есть устроиться без правителей, капиталистов и их подручных, — все эти указания не серьезны. Современное общество, хотя и задерживает возможное сильное развитие умственных и нравственных способностей человека, тем не менее, оно не принизило и не могло принизить способностей трудящихся масс настолько, чтобы для них стал невозможен переход к вольному социалистическому строю. Но современное общество, действительно, сделало правителей, капиталистов и их подручных, в том числе и многих интеллигентов, не способными (благодаря их умственной и нравственной дегенерации) организовываться на вольных и равных началах. Тем не менее, эти общественные классы не имеют оснований приписывать рабочим массам свою неспособность прогрессировать в деле общественного строительства. Если наши современники и опасаются организовать общество, не знающее предпринимателей-капиталистов (или заменяющих их чиновников), то только потому, что приписывают этим лицам не свойственную им роль. В сущности в каждой современной мастерской все производство в мелочах и в целом организуется не капиталистами, не предпринимателями, а именно рабочими. Все дело производства ведется рабочими физически-умственного и рабочими умственно-физического труда. Любая мастерская идет, как пущенная в ход машина, именно потому, что она полна организаторами-рабочими, умеющими согласовать свои усилия. Самые ловкие капиталисты ничего бы не организовали, навербовав рабочих среди дикарей Австралии, например. В будущем обществе дело производства будет вестись как раз самими производителями, рабочими физического и умственного труда, их сходами и объединениями. Как это всегда бывает, сама цель данного производства указывает, как надо его организовать. В настоящее время в ряде производств работают и лица, получившие то или иное техническое образование. Само собою понятно, что в будущем обществе не будет ощущаться недостатка в таких лицах. Даже тотчас после переворота, технически образованных лиц будет столько же, сколько их будет ко дню переворота в капиталистическом обществе. Инженеры, химики, механики и пр., не находя себе места в упраздняемых предпринимательских хозяйствах и желая иметь заработок, естественно, войдут в те предприятия, где их технические знания послужат производству, как служили ему и при капиталистах. Возможен, конечно, и саботаж части технического персонала, но он может быть только временным явлением. Будущее общество в самый короткий срок сможет подготовить нужное ему количество технически образованных людей. Заметим, между прочим, что изобретателями современных машин как раз и были в большинстве случаев рабочие. Паровая машина, прялка “Дженни,” пароход, локомотив, передача электрической силы, механический клапан, шпалы для рельс, кружевная машина, хромолитография и пр. и пр. — все это было изобретено не учеными, а рабочими. Уатт, Стефенсон, Фултон, Грамм, Кроптон, Хергивс и т. д. — все это были рабочие. И рабочие смело могут взять в свои руки дело производства, не опасаясь технических затруднений. XXXII Социальная, то есть большая, революция уничтожает институты государственной власти и капитала. Каковы бы ни были другие приемы социальной революции, — говорит П. Л. Лавров, — одно бесспорно: она должна начаться немедленным и неуклонным обращением всякого имущества — частного имущества групп, имущества государственного в имущество общее.” Если, например, частная собственность останется у значительной группы лиц, если останется возможность наживы, а это наблюдалось, например, в русской республике 1918-19 годов, если увеличивается сфера государственной собственности, хотя бы за счет частной, если государственная власть усиливается и власть правителей начинает граничить с произволом, — в этом случае нельзя говорить о социальной революции. Перед нами прошла политическая революция с некоторым уклоном в сторону революции социальной. Полное уничтожение частной и государственной собственности на все виды капитала, полное уничтожение институтов, то есть уничтожение государства, — вот в чем заключаются существеннейшие признаки социальной революции. XXXIII Социальная революция имеет своею целью не только передачу в общее достояние всех средств производства, но и передачу товаров, домов, пищи, одежды и проч. Как средства производства, так и товары являются продуктами труда того громадного коллектива, который называется человеческим. Если часть этих продуктов скопилась в немногих руках, то только потому, что современный строй позволил одним лицам эксплуатировать других. Все эти продукты должны перейти в общее достояние на тех же основаниях, что и средства производства. Мы отказываемся понять, почему материалы и полуфабрикаты, находящиеся в складе какого-либо капиталиста должны остаться его собственностью. Мы не понимаем, почему можно взять в общее достояние ту часть дров, которой будут отапливать машины, и нельзя взять тех дров, которыми можно отопить квартиру работающих на этой машине людей. Ведь способ приобретения всех этих продуктов капиталистами — один и тот же: постоянная эксплуатация трудящихся; причем все эти продукты, как те, так и другие, равно необходимы для жизни людей. “Почему надо экспроприировать уголь для машины и нельзя экспроприировать пищу для рабочих? Почему же пища, без которой человеческая машина не способна ни на малейшее усилие, исключается из предметов, необходимых для производителей? — спрашивает П. А. Кропоткин. — Одежда, обувь, жилище, топливо так же необходимы для производителей, как и пища. Для человека работающего, отопленная и освещенная комната является таким же средством производства, как какой-нибудь инструмент или машина. Блуза и обувь, без которых рабочему нельзя итти на работу, одежда, которую он оденет по окончании рабочего дня, и фуражка, которая у него на голове, так же ему необходимы, как молот и наковальня.” Коммунизм должен быть осуществлен по возможности полно. Если кто-либо владеет таким количеством каких-либо продуктов, какое превышает во много раз среднюю норму потребления обыкновенного человека, — такой излишек (раз только в этих продуктах будет чувствоваться недостаток) будет взят в общественное достояние, и далее эти продукты будут переданы нуждающимся. Надо делать различие между товарами и теми предметами личного потребления, которыми пользуются уже потребители. В последнем случае могут быть отобраны предметы первой необходимости, да и то при непременном условии, что такие предметы первой необходимости не имеются в общественных складах. Отобрание предметов личного потребления должно происходить таким образом, что старые владельцы продуктов не будут лишены всего своего имущества: у них останется не менее предметов потребления, чем у всякого другого потребителя. Возможна ли, вероятна ли социальная революция? Эта революция возможна и народы Европы, быть может, и близки к ней. Приближение этой революции чувствовалось даже принципиальным ее противником анархистом-коммунистом Л. Н. Толстым, отвергавшим даже временное насилие, даже насилие самозащиты. Этот серьёзный, проникновенный и наблюдательный человек, рассматривающий всякое насилие, в том числе и насилие революционное, как нечто вредное, говорил следующее: “Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность — истощение терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, — опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасом разрушения и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока кое-как разными хитростями на время отсрочиваем взрыв ее. Таково положение в Европе, таково положение и у нас; еще хуже у нас (речь идет о времени монархического режима. А. К.), потому что оно не имеет спасительных клапов... Опасность все растет, и ужасная развязка приближается.” Надо, впрочем, помнить, что люди, жадные до власти и до богатства, употребят все усилия для того, чтобы политическую революцию выдать за социальную, для того, чтобы помешать народным массам устроиться на началах вольного рабочего социализма. Десять заповедей организованных рабочих Устраивая свои организации, рабочим необходимо руководствоваться следующими правилами: 1. В рабочую организацию (союз, совет) принимаются только рабочие. В “советы7 “правления,” “комитеты,” секретариаты,” “комиссии” рабочих организаций, на собрания рабочих по делам этих организаций допускаются только рабочие. (Неисполнение этого правила ведет за собою споры между рабочими и не рабочими, невыгодные для рабочих действия и постановления. Один из основателей первого рабочего Интернационала, богатый промышленник Белэ, отказался вступить в Интернационал, сказав рабочим: “Оставайтесь сами собою; не принимайте ни капиталистов, ни предпринимателей/' Это был честный и умный совет.) 2. Рабочие организации не должны находиться в зависимости от политических, хотя бы и социалистических, партий. Рабочие советы и союзы не должны находиться в союзе с политическими партиями. Если рабочий находится в комитете какой-либо партии, если он является депутатом парламента, городской думы, то одновременно с этим он не может находиться в совете, правлении, комитете, секретариате или комиссии рабочей организации. Членом рабочей организации он может оставаться и при указанных условиях, если только он продолжает заниматься своей профессией. (Политические партии, все без исключения, по своим целям, по составу своих членов, по приемам борьбы не являются солидарными с рабочими организациями и стремятся так или иначе использовать их для своих целей. Эти цели в подавляющем большинстве случаев или бесполезны, или вредны для рабочих.) 3. Члены рабочих организаций должны рассчитывать в деле освобождения только на себя, на свою самодеятельность. Прежде всего они должны пропагандировать всеобщую забастовку и социальную революцию, готовиться к той и другой, ни на минуту не забывая, что они ничего не добьются ни от правительства, ни от депутатов, хотя бы и социалистических. Рабочие не должны думать, что их выборные в союзах и советах сделают за них рабочее дело. Им нужны только исполнители их поручений, но не вожди и генералы. (Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих, а не депутатов и уполномоченных.) 4. Каждый рабочий союз, каждый совет рабочих, каждое отделение союза, каждый сход рабочих должен быть совершенно самостоятелен и свободен в своих действиях и постановлениях, хотя бы эти рабочие организации и находились в какой-либо более обширной объединаяющеЙ многие союзы и отделения организации. (Всякая централизация — это убийство самодеятельности рабочих.) 5. Правления, советы, комитеты, комиссии, секретариаты рабочих организаций могут давать только необязательные указания и советы, но не приказы и распоряжения. Даже решения съезда союза или союзов обязательны только для тех организаций, которые их утвердили. (Бесконечно долгое время распоряжаются рабочими и приказывают им, а рабочие все остаются грабимыми людьми. Пора и своим умом пожить.) 6. Рабочие должны добиваться всего, чего им надо, непосредственным воздействием, непосредственной борьбой с хозяевами или правительством. (Приемы и способы рабочей борьбы — стачка, либо плохая работа, бойкот-отчуждение, пропаганда противомилитаризма, про-тивопарламентаризма, всеобщая революционная забастовка, социальная революция. Рабочие должны отказываться от обязательных третейских судов, от денежной помощи от властей, помня, что эта помощь дается врагами недаром. Если очень уж плох изданный правительством рабочий закон, надо бороться против его применения. Требовать же от правительства хороших рабочих законов — это все равно, что требовать от осла соловьиного пения.) 7. Периодические взносы в кассы рабочих организаций должны быть небольшими, для всех доступнимы. (Важны в борьбе с хозяевами и правительством не богатые деньгами кассы, а энергия, с которой эта борьба ведется. Деньгами рабочие не могут тягаться с предпринимательским капиталом.) 8. Срок, на который надо выбирать уполномоченных в правление, комитеты и другие учреждения рабочих организаций, должен быть коротким и во всяком случае не больше двух лет. Кто отбыл свой срок, того ни в коем случае нельзя выбирать на второй срок. (Если уполномоченный рабочих долго сидит в правлении, он делается чиновником, генералом, больше заботится о том, чтобы его снова выбрали, чем о делах союза. Не мешает также, чтобы побольше рабочих прошло через эти правления, комитеты и проч.) 9. Жалованье выборным рабочим не должно быть больше заработка хорошего рабочего; все выборные лица должны получать одинаковое жалованье, как бы они ни назывались и чем бы ни были заняты. Жалованье дается только тогда, когда занятия по организации не позволяют рабочему наняться на работу. 10. Лучше организоваться по большим отделам производств, при полной самостоятельности входящих в эту большую организацию союзов по отдельным профессиям. В союзы принимаются все рабочие — мужчины и женщины, русские и не русские, мастера и ученики. Всякий член союза волен придерживаться каких хочет политических убеждений. Советы безработных должны входить в общую организацию. Оглавление От Издательства—Профсоюз г. Детройта Жизнь и деятельность А. А. Карелина Аполлон Андреевич Карелин—Е. 3. Моравский Памяти А. А. Карелина—А. А. Солонович Вестник Грядущего—Н. И. П Вольная жизнь: Закон, его сущность и значение для общественной жизни Что такое анархия? Десять заповедей организованных рабочих Новые книги Издание Профсоюза г. Детройта: Макс Неттлау: "Очерни по истории анархических идей и статьи по разным социальным вопросам." Книга имеет 400 страниц. Цена: в переплете $3.00 в мягкой обложке $2.00 Алексей Николаев: "Первый среди равных." Роман. В книге 165 страниц. Цена ..75 Издание “Друг”: Е. 3. Долинин-Моравский: "В вихре ревопюции." В книге 460 страниц. Цена: в переплете................$3.50 в мягкой обложке $3.00 Заказы направляйте по адресу: Dielo trouda-probuzhdenie Р. О. Box 54, Cooper Station New York 3, N. Y. Подписивайтесь на журнал “Дело труда-пробуждение” Единственный на русском языке орган свободной мысли, вступивший в 31 год издания. Журнал посвящает свои страницы анализу политических событий, общественных проблем и задачам освободительного рабочего движения. Журнал Цело Труда-Пробуждение является органом свободолюбивых русских рабочих. Он издается на добровольные пожертвования рабочих. Журнал отстаивает и защищает интересы труда, он борется за свободу, равенство и справедливость для всех, за международную кооперацию, солидарность и братство народов. Годовая подписка на журнал..........$2.00 На пол года ........ $1.00 Пробные номера высылаются бесплатно Подписку и пожертвования на журнал и заказы на книги просим направлять по адресу: Dielo trouda-probuzhdenie р. О. Box 54, Cooper Station New York 3, N. Y. Анархия мыслима только в коммунистическом обществе. Общество неравных доходов требует принудительной власти, заставляющей одних людей довольствоваться меньшим количеством продуктов, чем те, которым пользуются другие. 2 “Если мы желаем устранить преступления,” — говорит А. Бер, — “то мы должны уничтожить те социальные неурядицы, которые являются благоприятной почвой для развития преступления.” 3 “Наше воспитание научило нас, не колеблясь, убивать годы и издерживать миллионы на открытие и наказание преступлений... и, однако, мы не подвинулись ни на шаг на истинном пути предупреждения преступлений” (Р. Оуэн). 4 Верю, потому что это нелепость.” 5 У американских эскимосов весь наличный запас провианта и утвари у населения безусловно считается общим достоянием: пока в лагере есть хоть один кусок мяса, он считается общей собственностью и при дележе наделяют каждого им, особенно бездетных вдов и больных (Фр. Гельвальд). 6 Некоторые дикие племена не знают ссор. 7 Не так давно еще закон некоторых стран предписывал, сколько кушаний надо подавать за обедом, во что одеваться, какой религии придерживаться, какие истины проповедывать, какие продукты производить и т. д. Отказ от издания таких законов принес обществу только некоторое облегчение. 8 за собой серьезные основания, переводится словом “злоупотреблять.*' Но независимо от римского текста, данное выше определение собственности—безусловно точно, научно.
|