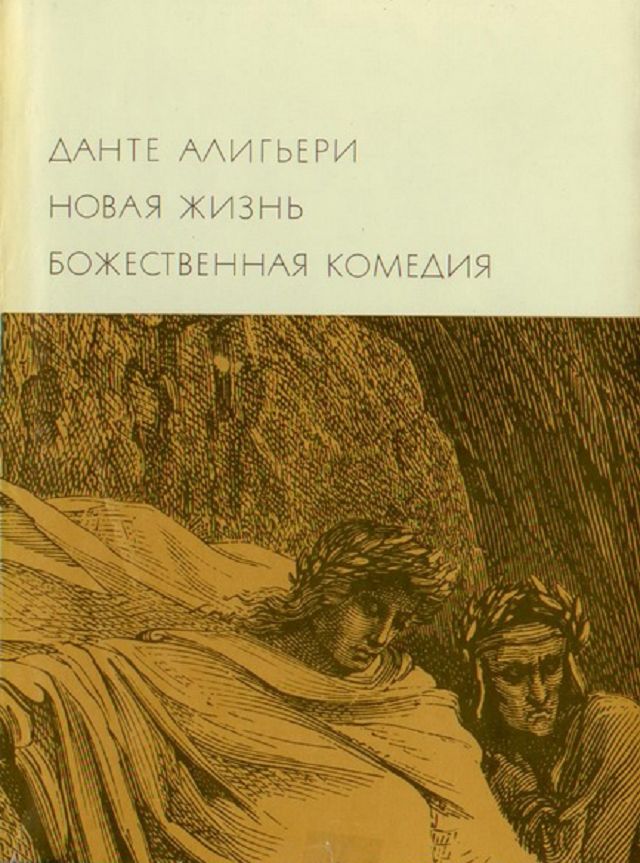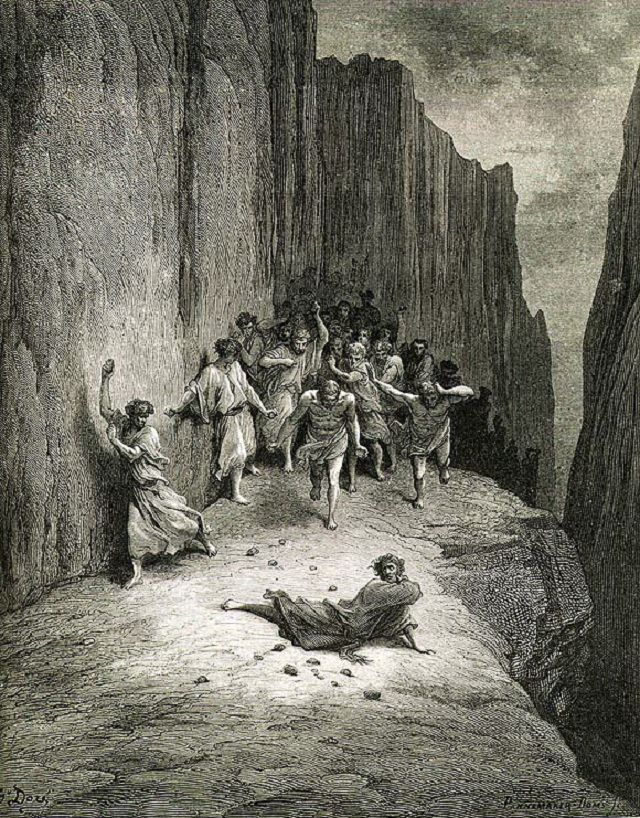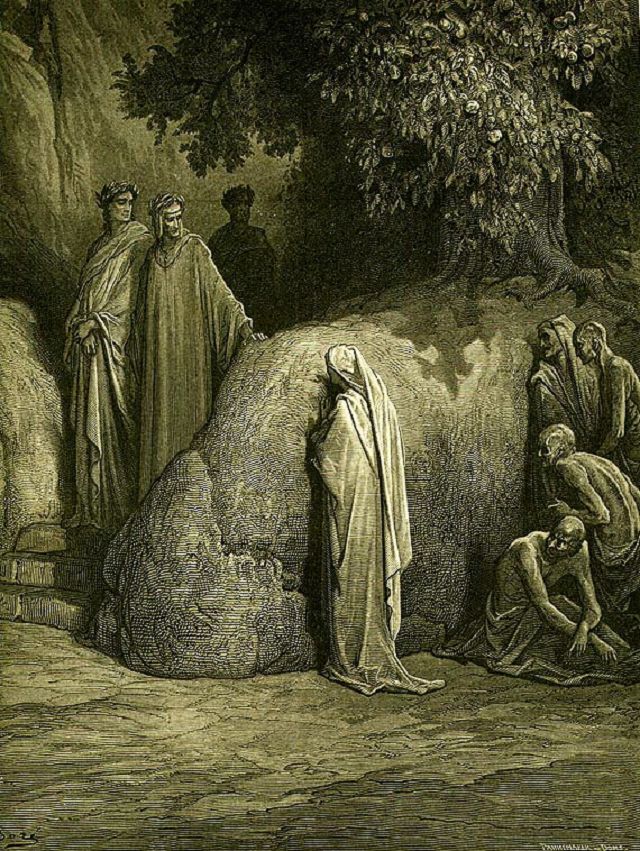| |||
Данте Алигьери
Данте
Божественная комедия Перевод с итальянского А. Эфроса, М. Лозинского. Вступительная статья Б. Кржевского. Примечания Е. Солоновича, С. Аверинцева, А. Михайлова, М. Лозинского . Иллюстрации Гюстова Доре. Б. Кржевский. ДАНТЕ
Имя Данте, вместе с именами Шекспира и Рафаэля, претворилось в нашем сознании в символическое обозначение драгоценнейших и интимнейших достижений культуры нового времени. Они трое являются синтетическими образами ее, резюмируют, определяют и предсказывают ее характер, сущность и направление. Данте Алигьери родился во Флоренции в мае 1265 года. Род свой он возводил к римским гражданам и был склонен подчеркивать его знатность, хотя фактически он принадлежал к среднему сословию. О родителях его мы почти ничего не знаем, о детстве и юности его имеем лишь отрывочные сведения. Девяти лет от роду (так рассказывает Данте в «Новой Жизни») он влюбился в девочку своих лет, и память об этой любви преобразила всю его душу и жизнь. Любовь эта определила идеальное и возвышенное единство, которое так поражает в творчестве Данте. На основании случайных упоминаний поэта можно установить, что он получил очень поверхностное и недостаточное образование, которое расширил и довел до исключительной по тем временам полноты благодаря упорной работе в зрелом возрасте. Повидимому, он и в ранние годы проявлял определенную склонность к науке и к поэзии. Двадцати четырех лет от роду он принял участив в военных операциях против соседних городов – Ареццо (битва при Кампальдино) и Пизы (осада Капроны). В 1296 году он женится, а в 1300 году осуществляет ответственные дипломатические поручения и исполняет обязанность приора. Данте играет значительную общественную роль и принимает активное участие в политике родного города. Флоренция переживала в то время сложный политический и экономический кризис. В сущности, то была борьба осознавшей свое политическое значение буржуазии против наследственной аристократии. Это обстоятельство объясняет, почему к середине XIII века традиционные политические лозунги – гвельфы (сторонники папы) и гибеллины (сторонники императорской власти) – не заключали в себе положительного содержания. В целом ряде городов возникают такие партии, и всюду борьба велась за политическое преобладание классов и приводила к изгнанию одной из враждующих сторон. В изгнании вчерашние враги, очутившиеся вне пределов родного города, объединялись, братались и сообща выступали против недавних своих единомышленников. Вся Италия разбилась на два стана: одна сторона (гибеллины) отстаивала архаическую, ушедшую в область предания эпоху и боролась за своеобразную феодальнодемократическую республику, самовластную и тираническую, другая (гвельфы) стояла за новый порядок вещей и стремилась к организации республики купцов и ремесленников. Эту экономическую и социальную борьбу с разным успехом и одинаково насильническим способом поддерживали папы и светские чужеземные государи, мечтавшие о воплощении средневекового идеала всемирной Римской монархии. Своеобразные местные условия вызывали дробление и расслоение внутри двух главных партий, так что Данте, относивший себя к гвельфам, принадлежал к особому крылу их, так называемых белых, возглавляемых родом Черки; наряду с ними существовали «черные», руководимые родом Донати. Это разделение наступило вслед за изгнанием гибеллинов и отразило различные ориентации отдельных слоев гвельфского населения. Донати усвоили методы борьбы аристократов и сумели привлечь к себе плохо понимавших политические дела мелких ремесленников и поселян. При таком положении вещей им было выгодно заручиться поддержкой папы Бонифация VIII и тем самым лишить всякого влияния более мирную, умеренную сторону – «белых». Последние опирались на крупные цехи и стремились создать для Флоренции положение, независимое от влияния аристократии и папы. Внутренний раскол был ловко использован Бонифацием VIII. Прикрывшись предлогом умиротворения сторон, папа прислал во Флоренцию Карла Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого, и прибытие его явилось для «черных» сигналом к репрессиям в отношении «белых». В то время как Данте представлял интересы своих единомышленников при папском дворе (январь 1302 г.), «черные» во Флоренции предали его суду, обвинили в подкупе, взяточничестве, интригах против церкви и приговорили к изгнанию на два года, крупному штрафу и лишению права занимать публичные должности. Так как Данте не был в состоянии обжаловать это решение, судьи постановили изгнать его навсегда, а в случае появления во Флоренции – сжечь на костре. Незаслуженный удар глубоко оскорбил гордую душу Данте. Это было вопиющей несправедливостью. Его горячее и бескорыстное стремление трудиться на пользу любимой Флоренции было втоптано в грязь. В течение 1302–1304 годов Данте намеревался в союзе с другими «белыми», изгнанными гибеллинами, вернуться во Флоренцию, но картина личных интриг и распущенности в их стане оттолкнула его. Он отделился от своих единомышленников и организовал «партию из самого себя». В течение двадцати лет поэт скитался по Италии, пользуясь поддержкой просвещенных магнатов и правителей отдельных городов. О годах этих скитаний известно мало; мы знаем, однако, что Данте побывал в Вероне, Казентине, Луниджане, Равенне. К 1310 году относится последняя вспышка политических надежд Данте: в это время в Италию прибыл император Генрих VII Люксембургский, на которого гибеллины возлагали большие надежды. Но Генрих умер в 1313 году и не успел никому из них открыть доступ во Флоренцию. Изгнание поэта было подтверждено декретом 6 ноября 1315 года, и дважды он был исключен из числа амнистируемых граждан (в 1311 и 1316 гг.). Последние годы Данте провел в Вероне и Равенне и умер в Равенне, окруженный вниманием и заботами последнего покровителя Гвидо Новелло да Полента. Тело Данте покоится в Равенне и теперь, несмотря на все попытки Флоренции вернуть в свои стены прах того, кого она не сумела охранить при жизни. Грустная и тревожная жизнь измучила вконец душу Данте, но вместе с тем она подготовила и предопределила величие его как поэта. Его творчество, несомненно, не могло бы отлиться в те формы, какие оно приняло, если бы Данте спокойно прожил свой век во Флоренции и отдавал свои досуги общественным делам. Годы изгнания вызвали к жизни и во многом обусловили пафос и настроение «Божественной Комедии». Для нас Данте прежде всего поэт, автор «Новой Жизни» и «Божественной Комедии». Далеко не все поклонники его поэзии читали «Пир» и даже «Стихотворения». Еще меньше читателей находят его латинские трактаты: «О народном красноречии» и «О монархии». Для полного и всестороннего истолкования его личности эти сочинения совершенно необходимы. Они показывают, что гениальный поэт был мыслителем, ученым и политиком. Современники ценили эту ученость не меньше, а в иных случаях – даже больше, чем поэтические достоинства его произведений. Совершенно естественно, однако, что поэтическая слава Данте целиком покоится на его юношеском романе («Новая Жизнь») и на грандиозном здании «Божественной Комедии». Все остальные произведения имеют вспомогательное значение и служат как бы введением и комментарием к ним. Особо стоят «Стихотворения» («Rime») – сборник лирических стихотворений, из коих многие по стилю и тону резко отличаются от пьес, выбранных для «Новой Жизни». Начало деятельности Данте тесно связано с новым направлением в истории итальянской поэзии, известным под названием школы «сладостного нового стиля» (термин Данте). Кроме Данте, в нее входили его близкий друг Гвидо Кавальканти, Лапо Джани, Чино да Пистойа и др. Программа и творческие результаты этого литературного направления резко отличаются от предшествовавших (сицилианской и болонской школ), еще сильно связанных иностранными, провансальскими образцами. Углубление психологического содержания идет параллельно с совершенствованием поэтического языка. Поэты стараются освободиться от условных и механических приемов, соединяют изысканность мыслей с гармонией и благородством стиля. Они ищут индивидуализации и искренности творчества. Любовь подвергается высокой идеализации – это возвышенное, облагораживающее чувство, имеющее большую нравственную силу. Женщина, «мадонна», рисуется как небесный ангел, не знающий ничего земного; реальные черты едва просвечивают сквозь оболочку таинственного сияния. И, однако, в противовес прежним концепциям, в ней нет ничего гордого и властного, – она кротка и скромна, один ее вид влечет к добродетели и благу. При виде ее влюбленный дрожит и бледнеет, он почти лишается чувств при созерцании ее чистоты и святости. Все переживания сердца воплощаются в тонкой игре «духов», обитающих в душе влюбленного. Они, эти таинственные сущности, волнуются в нем, движутся, обращаются к нему со словами убеждения, подсказывают ему нужные решения. Таким образом, психологический анализ получает отчетливость, глубину и тонкость, хотя и грешит искусственностью и условностью. Отмеченный недостаток искупается высоким этическим содержанием и нотой неподдельного личного чувства. Все эти особенности, положительные и отрицательные стороны новой манеры присутствуют в романе «Новая Жизнь». Содержание его лишено всякого движения. Фабулы нет. Первая встреча героев книги имела место, когда Данте и героине его романа Беатриче было девять лет. «Дух жизни» задрожал в глубине его души, и с тех пор любовь безраздельно завладела его сердцем. Через девять лет он встречает Беатриче снова: она приветствовала его легким движением головы и преисполнила его несказанным блаженством. Он спешит к себе в комнату и в волнении пишет свой первый сонет. В другой раз он встречает Беатриче в церкви и, опасаясь выдать тайну своего сердца, делает вид, что интересуется другими дамами. Злонамеренные люди сообщают об этом Беатриче, и она более не кланяется ему. Данте убит горем, но вот друг доставляет ему случай увидеть Беатриче среди других дам, собравшихся на какойто свадьбе; тут Данте испытывает такое волнение и так смущается, что Беатриче потешается над ним. Это повергает поэта в новое горе, – проплакав долго, он решает, что никогда не будет искать с нею встречи, ибо все равно не в силах владеть собой в ее присутствии. Отныне он посвятит себя воспеванию Беатриче – это станет источником его блаженства. Так открывается вторая часть «Новой Жизни». Образные картины и описания достоинств и добродетелей Беатриче, проникновенный анализ экстатического обожания сообщают одухотворенность и яркость схематическим литературным приемам. Во второй части отец Беатриче умирает, поэт отзывается на эту смерть глубоким состраданием. Болезнь приковала Данте к ложу, мрачные предчувствия и мысли о смерти терзают его. В бреду он слышит предвещание своей смерти; видения множатся, делаются все безысходнее. Он видит, как меркнет солнце, как бледнеют и льют слезы звезды; птицы падают мертвыми на лету, земля дрожит и слышится неведомый голос: «Ты ничего не знаешь? Твоя возлюбленная умерла!» Вскоре поэту принесли известие об ее кончине. Весь мир опустел для него; смерть Беатриче является в ощущении Данте общественным бедствием, и он оповещает о нем именитых граждан Флоренции. В течение двух ближайших лет Данте ищет утешения в серьезной работе мысли. Острота потери несколько сглаживается: взоры одной дамы, которая пожалела горевавшего юношу, вливают в его сердце чувство любви. Он делает ее предметом своих мечтаний, забывает о Беатриче, но ненадолго. Данте скоро одумался, вернулся к единственной и настоящей любви и заканчивает книгу торжественным обещанием увековечить ее память поэтическим созданием, на какое не вдохновляла еще ни одна женщина. Таков этот первый в Европе психологический роман, сообщивший небывалую еще высоту и духовность обрисовке чувства любви. Он первое воплощение того простого и вместе необыкновенно сложного, чреватого многими последствиями чувства, которое определило развитие заветнейших сторон дантовской души. Любовь Данте трогательна по своей свежести и наивности, и вместе с тем в ней чувствуются веяние сурового и внимательного к себе духа, рука художника, думающего сразу о многом, переживающего сложнейшие драмы сердца. Анализ формальной стороны романа вскрывает в Данте небывалого гения, превращающего наивные приемы средневековой мысли в орудие тончайшего психологизма. Уже тут поражает сочетание двух стихий в его душевном облике, «огонь» и «лед» сплетаются в нем неразрывно. Он пылает экстатической страстью – и точно рассчитывает каждый шаг, подчиняет изложение глубокомысленной игре «таинственных» чисел «три» и «девять», бесстрашно рисует пред нами «геометрические» своды своих планов, уходящих в необозримую даль. Душа молодого Данте излучает особенное тепло и свет. Всякий, кто вдохнул в себя аромат интенсивной и страстной любви, разлитой в «Новой Жизни», так же бесповоротно предчувствует и чует в ней атмосферу «Божественной Комедии», как это чувствовал сам бессмертный ее автор. К «Божественной Комедии» ведут прямые пути от последнего сонета сорок первого параграфа «Новой Жизни»: «Oltre la spara che piu largha gira». И не только потому, что здесь пред нами непререкаемое свидетельство созерцания Беатриче, просветленной светом славы в ликующих огнях Эмпирея. Связь гораздо непосредственнее, интимнее и глубже. Этот сонет обладает той же осязательностью поэтической атмосферы, поэтической «плоти», которой мы касаемся в «Божественной Комедии». Уже тут есть то, что можно назвать «универсальностью» в поэтическом мироощущении Данте. Он охватывает предмет изображения сразу в двух планах – и духовном и материальном, заставляя дух трепетать плотью и плоть светиться внутренним озарением. Мелодия этого сонета построена на экономном и строгом раскрытии элементов сложного образа: вздоха , улетающего за пределы вращающихся небесных сфер к небу Эмпирея; вздоха, созерцающего там славу Беатриче и рассказывающего о ней поэту. Орлиный взор поэта, озирающего структуру вызванного его воображением мира, мелькнул пред нами впервые, и вместе с тем уши наши наполнены тем пророческим «шумом и звоном», который, являясь предвестником чудесного обострения слуха поэта, позволит нам в кругах и сферах внять: … неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. «Божественная Комедия» писалась почти четырнадцать лет. Слово «божественная» прибавлено после смерти Данте его почитателями. Для него же это была «комедия» (понимаемая вне связи с драматическим каноном – как соединение возвышенного с обыденным и тривиальным), а кроме того, «poema sacra» – священная поэма, трактующая об откровениях неземного бытия. Данте, несомненно, преследовал поучительные цели и писал произведение не только этическое и религиозное, но и ученое. Вместе с тем это – глубоко личное и интимное создание, где любовь к Беатриче, осознанная и оформленная в поэтике «нового стиля», ищет раскрытия и обоснования в аспекте теологии Фомы Аквинского, вырастает до размеров и таинственности спасающей благодати (gratia efficieno). При таком универсализме душевного диапазона, где поистине «все во мне – и я во всем», не может быть ничего случайного и ненужного. Без космографии, астрономии и математики, без системы мира Птолемея Данте никогда не раскрыл бы и не нашел себя. И не тому следует удивляться, что наука присутствует в «Божественной Комедии», а тому, что порою призрачные научные построения оказываются такими емкими и эластичными, способными вместить в себе удивительное душевное своеобразие. Величие Данте сказывается в способности творчески почувствовать органическое единство мира. Что бы ни говорили современные ему ученые, ощущение всего мироздания как живой целокупности, позволившее Данте взглянуть на мир интимно и сердечно в том смысле, что для него нет разницы по существу между «маленькой Флоренцией – логовищем, где Данте отдыхал ягненком», и «великой Флоренцией» – вселенной, – это ощущение для эпохи Данте оставалось еще книгой за семью печатями. Мы ближе и лучше, чем современники Данте, можем понять его возвышенную интуицию. Для Данте космография и этика, «бездушный лик» природы и мир человека есть нечто цельное, крепко друг с другом связанное. Зло, поднимающееся из глухих тайников души, – то самое зло, которое, как червь, подтачивает изнутри прекрасный центр божественного плода – вселенной, то есть это мучающийся в самом центре земли Люцифер – огромный, отвратительный и конкретный, пасти, крылья и цвета которого можно описать, подсчитать и определить. Законы этические суть законы естественные, и законы естественные суть законы этические, так что лихоимец виновен в таком же извращении естества, как и насильник и развратник, отступающий от путей и указаний природы. По мере того как жизненный опыт открывал перед Данте отвратительную картину падения и порчи человека, для него уяснялась органическая бренность и порча мира, который нужно спасти. И он, исходя из опыта личной катастрофы, хочет оповестить всех о грозящей им беде и бьет тревогу, раскрывая перед всеми свою продуманную и строго расчисленную картину и систему дел мирских и человеческих. Обозревая мысленно «Божественную Комедию» в целом, нельзя избавиться от впечатления, что дарование Данте всего ближе дарованию гениального зодчего, – в такой мере удивляют подбор, распределение материала, расчет сопротивления и тяжести. Пресловутое сравнение «Божественной Комедии» с готическим собором стало бы реальным только в том случае, если мы могли бы указать прекрасный собор, в котором все работы, общий замысел и детали были бы выполнены одним человеком, совместившим в себе архитектора, каменотеса, скульптора и художника. Материальность и телесность «Ада» особенно легко позволяют распознать эту сторону дарования Данте, хотя, в сущности, это относится еще в большей степени к ослепительной планировке «Чистилища» и «Рая». Но так как самый характер пластики двух последних частей непривычен и необычаен, в него можно вглядеться только в результате повторного чтения и изучения. «Божественная Комедия» распадается на три части – кантики: «Ад», «Чистилище» и «Рай», каждая из которых состоит из тридцати трех песен, что в общей сумме в соединении со вступительной песнью дает цифру 100. Каждая часть имеет деление на девять отделов плюс дополнительный десятый; вся поэма написана трехстрочными строфами (терцинами), и каждая часть ее заканчивается словом «звезды» («stelle»), знаменательно звучащим в каждой из составных частей целого. Символика «идеальных чисел» – «три», «девять» и «десять», знакомая нам по «Новой Жизни», – ближайшим образом определила все распределение поэмы и особенно рельефно сказалась в локализации центральной для личных целей Данте сцене – видении Беатриче в тридцатой песне «Чистилища». Поэт не только приурочил его к тридцатой песне (кратное трем и десяти), он поместил слова Беатриче в самую середину песни (с семьдесят третьего стиха; в песне всего сто сорок пять стихов); если прибавить к этому, что до этого места в поэме – шестьдесят три песни, а после нее – еще тридцать шесть, причем числа эти состоят из цифр 3 и 6 и сумма цифр в обоих случаях дает 9, то удивительное композиционное дарование Данте поражает еще больше. Впрочем, не в таких соответствиях и внешних эффектах сила и значение Данте. Точные распределения и детали поражают так потому, что они осуществлены наряду с решением колоссальных психологических задач. Данте, с любознательностью и пытливостью Леонардо да Винчи изучающий проблемы естествознания (теория лунных пятен, теория эмбрионов), охватывающий своим пониманием все формы физического мира, соединяет эти интересы с самыми бесстрашными полетами фантазии. Построив «Божественную Комедию» по методу романа приключений, действие которого развивается в неведомых странах, Данте с исчерпывающей точностью описывает все мелочи и подробности пути. Изменения почвы, спуски, лестницы, скалы, тропинки и проходы отмечены и обозначены так, что у читателя не остается сомнения в реальности изображаемого. И с тех пор, как вместе с Данте мы вступили в преддверие «Ада», где караются столь ненавистные ему «нерешительные», не примкнувшие ни к одной из боровшихся партий, и увидели, как несутся они вслед за знаменем – нагие, мучимые мухами и осами, обливаясь кровью и слезами, которыми у их ног питаются отвратительные черви, – мы ни на минуту не остаемся в неведении относительно всех ужасов и чудес, открывающихся пред нашими глазами. Мы проходим через тесный и смрадный «Ад», озаренный багровым заревом «города Данте», видим там пленительную Франческу, узнаем подробности мучений, видим злобные игры адских служителей, слышим, какая мука уготована ненавистному Бонифацию, как терзается в центре Джудекки гигантский Люцифер. Ненависть, скорбь, негодование и гордое упорство в грехе – вот господствующая атмосфера, в которой развертываются отдельные сцены и картины. Мрак, красноватые отблески и очертания движущихся во мраке силуэтов есть в такой же мере реальная и необходимая для центра земли обстановка, как и художественная подготовка настроения и освещения «Чистилища», где «ни день – ни ночь, ни мрак – ни свет». Покой, нежная грусть, освобождение от груза земных воспоминаний, угнетающих узников «Ада», ликование среди пламени, надежда на будущее в чистилище отвечают легкому и приподнятому настроению, какое подчеркивается постоянным восхождением вверх. В начале пути по кручам чистилища ангел начертал на челе Данте семь латинских Р (peccatum – грех), и по мере того как они идут все выше и очищаются от грехов, другие ангелы крыльями стирают одну за другой эти буквы. Планировка «Рая» особенно чудесна и загадочна. Блаженные как бы отображают божественное «вездесущие». Все они составляют «мистическую Розу» Эмпирея и занимают там в грандиозном амфитеатре место, соответствующее их подвигам и славе, и вместе с тем обладают силой показываться в небесных обителях Луны, Марса, Венеры и т. д. Несмотря на обилие и сложность материала, присутствие целой толпы действующих лиц, могущих, казалось бы, исчерпать все средства характеристики и притупить мастерство отбора деталей, в поэме все время чувствуется центральное положение Беатриче. Это она посылает к Данте Вергилия, по ее внушению Вергилий на вершине чистилища передает Данте Стацию. Она приходит к нему на помощь в трудные минуты, она встречает его в блеске и торжестве в земном раю, и обстановка святости не мешает ей взять простые человеческие ноты, воскрешающие пред нами настроение «Новой Жизни» и юношеский грех поэта – увлечение сострадательной дамой. Особенности искусства Данте проявляются сами собой при внимательном чтении каждой сцены и каждого эпизода. Некоторые из этих сцен и эпизодов давно стали всеобщим достоянием, явились излюбленными темами живописных и музыкальных композиций. Такова Франческа да Римини, еще на нашей памяти вдохновившая Метерлинка и д'Аннунцио. Изобразительный талант Данте, его удивительное умение всегда найти нужную ему конкретную символику особенно обострились в связи с тяготением поэта к лаконизму. Он мастер ракурса и ретиценции. Даже по переводу чувствуется, что воздействие его поэзии обусловлено средствами пластического, нервного и сжатого стиля. Возбужденное и пораженное воображение читателя опирается на полученный толчок, заканчивает жесты, дополняет портреты, конструирует психологию. Тяготение Данте к экономности и концентрированности стиля приводит в отдельных случаях к особым эффектам и вызывает если не неясности, то недоговоренность. Принятая поэтом формула поддается иногда двум или трем истолкованиям, и хотя прямой смысл ясен, не отпадает возможность параллельных пониманий. Эти свойства обеспечивают стилю Данте специфические ресурсы, аналогичные светотени в живописи. Оставленная в тени часть изображения невольно притягивает и увлекает глаз зрителя. Во втором круге ада Данте видит мучения сладострастников. Бурный вихрь, образно символизирующий вихрь страсти, мчит толпы мучеников, как осенние листья, гонимые ветром. Внимание Данте привлекает нежно обнявшаяся пара теней, не покидающих друг друга ни на минуту. Он заговаривает с ними и слышит трогательную историю Франчески да Римини, полюбившей брата своего мужа, Паоло Малатеста. Оба они пали от руки оскорбленного супруга. Пред нами тема, которую Боккаччо воспринял бы как вульгарную любовую связь; в наше время д'Аннунцио не сумел извлечь из этого сюжета достойных драматических эффектов. Весь эпизод не дает никакого выигрышного материала. Трудно открыть какую бы то ни было драматическую сложность в этих отношениях: Франческа и Паоло – любовники, связанные друг с другом непреодолимою слепою страстью. Их роман сопровождают досадные и неустранимые детали, закрепленные историей. И тем не менее у Данте получилась возвышенная картина любви и страданья, в которой растворились и исчезли невыгодные подробности. Искусство поэта запечатлело этот роман в образе Франчески, неотделимой от сопровождающих ее страстного вопля и неудержимых рыданий ее спутника. Оба они здесь такие же земные существа, какими были до смерти, – они не перестают переживать свое горе и, не отрываясь, пьют из горького кубка бессильного торжества. «Каи́на ждет убийцу!» – ликует Франческа. Жестокий муж будет наказан небом. Паоло никогда ее не покинет. Осужденные, как видим, сами желают своей муки, и для обоих отрадно это вечное горе вдвоем. Как последователь школы «нового стиля», Данте искусно компанует всю сцену и ведет ее нежно и сладостно вплоть до развязки: полет влюбленных легок и воздушен, они приближаются на зов поэта, как «два голубка», первые слова Франчески – слова благодарности за сочувствие. Настроение поддерживается подробностью: рассказ ведется от имени Франчески, Паоло молчит и только вторит ей глухими рыданиями. Начало и конец сцены окаймлены теми неполными формулами, о которых сказано выше. Франческа рассказала о своей смерти («е il modo ancor m'offende»), намекая на какуюто унизительную и оскорбительную кончину. Какую? После поцелуя, которым закончилось чтение Ланцелота, мы слышим: «И в этот день мы больше не читали». Что скрывается за этими словами: упоение страстной и грешной любви, или они, едва почувствовавшие свою близость и счастье, были убиты тут же на месте? Заключительный штрих: Данте – душа, знакомая с сердечными бурями, – выслушав, падает без чувств на землю, и нас снова охватывает свист подземного шквала, бушующего во мраке и уносящего в вечные круги обоих влюбленных. Другой эпизод, не менее известный в истории литературы и искусства, рисует голодную смерть Уголино делла Герардеска и его четверых детей. Данте встречается с ним в аду и поражается жестокостью картины: Уголино грызет зубами своего убийцу Руджери. По образной криминологии Данте, он таким образом утоляет вечную жажду мести и обиды. Гвельф Уголино – политический враг гибеллина епископа Руджери. После ожесточенной борьбы Руджери взял Уголино в плен и уморил его вместе с двумя внуками и двумя сыновьями голодом, заточив их в башне (у Данте все четверо – родные дети Уголино). Отсюда ясна символика мук Уголино: он погиб от голода по воле Руджери и теперь получает удовольствие – он пожирает своего истязателя и убийцу. Но, кроме этого толкования, возможно и другое. Уголино и дети услышали, что дверь их тюрьмы заколотили наглухо. Призрак ужасной смерти носится в голове Уголино – он засыпает и видит вещий сон: дети с плачем просят хлеба, а ему нечего дать им. Едва он проснулся, как слышит ту же просьбу наяву. Лицо Уголино исказилось страданием и ужасом, и вдруг он замечает, что выражение его лица отразилось на лицах его малюток. Jo scorsi / Per quattro visi il mio aspetto stesso. Вполне естественно, что страдание отца отобразилось на лицах детей; но не исключено и другое: дети могли почувствовать страшное побуждение, тайно шевельнувшееся, быть может, в душе отца, – побуждение утолить голод мясом своих детей! Лаконизм и интенсивность дантовского стиля предполагают пытливое и пристальное изучение натуры; метод суггестивных деталей есть естественное следствие сознательного выбора из неограниченно большого запаса впечатлений. И для нас не являются неожиданностью сведения о том, что Данте был превосходным наблюдателем и знатоком реальной жизни. Абстрактное мышление и возвышенные этические представления не оторвали его от живой жизни. Это заставляет припомнить драгоценные слова СентБёва, указавшего на одно знаменательное свойство подлинной и глубокой поэзии: «Существует степень поэзии, удаляющая от истории и действительности, и такая высокая степень поэзии, которая к ним приводит и с ними сливается». Б. КРЖЕВСКИЙ НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВОД А. ЭФРОСА В том месте книги памяти моей,[1] до которого лишь немногое можно было бы прочесть, стоит заглавие, которое гласит: Incipit vita nova.[2] Под этим заглавием я нахожу записанными слова,[3] которые я намереваюсь передать в этой книжице, если и не все, то, по крайней мере, смысл их.[4] I Девять раз уже,[5] после моего рождения, обернулось небо света[6] почти до исходного места, как бы в собственном своем вращении,[7] когда моим очам явилась впервые преславная госпожа моей души, которую называли Беатриче многие, не знавшие, что так и должно звать ее.[8] Она пребывала уже в этой жизни столько, что за это время звездное небо передвинулось в сторону востока на одну из двенадцати частей градуса:[9] так что она явилась мне в начале девятого года своей жизни, я же увидел ее в конце девятого года жизни моей. Она явилась мне одетой в благороднейший алый цвет,[10] скромный и пристойный, опоясанная и убранная так, как то подобало ее весьма юному возрасту. Тут истинно говорю, что Дух Жизни,[11] который пребывает в сокровеннейшей светлице моего сердца,[12] стал трепетать так сильно, что неистово обнаружил себя и в малейших жилах, и, трепеща, произнес такие слова: «Ессе deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi)».[13] Тут Дух Животный, который пребывает в верхней светлице, куда духи чувственные несут свои восприятия, стал весьма удивляться и, обратившись особливо к Духам Зрения,[14] произнес такие слова: «Apparuit iam beatitudo vestra».[15] Тут Дух Природный, который пребывает в той части, где происходит наше питание, стал плакать и, плача, произнес такие слова: «Heu miser, quia frequenter impeditus его deinceps!»[16] Отныне и впредь, говорю, Любовь воцарилась над моей душой, которая тотчас же была обручена ей, и обрела надо мной такую власть и такое могущество ради достоинств, которыми наделило ее мое воображение, что я принужден был исполнять все ее желания вполне. И много раз она приказывала мне, чтобы я искал встречи с этим юным ангелом: поэтому в детстве моем я часто ходил в поисках ее, и я замечал, что и вид ее и осанка исполнены достойного хвалы благородства, так что воистину о ней можно было бы сказать слова стихотворца Гомера: «Она казалась дочерью не смертного человека, но бога».[17] И хотя ее образ, постоянно пребывавший со мной, давал Любви силу, чтобы властвовать надо мной, однако таковы были его благородные достоинства, что не единожды он не позволил Любви править мною без надежного совета разума в тех случаях, когда подобные советы было бы полезно выслушать. Но если задержусь я долго на чувствах и поступках столь юного возраста, то покажется мой рассказ вымышленным, потому я оставляю это, и, миновав многое, что можно было бы извлечь оттуда же, откуда явилось на свет и это, я перейду к тем словам, которые записаны в дальнейших главах моей памяти. II После того как прошло столько дней, что исполнилось ровно девять лет со времени описанного ранее появления Благороднейшей, в последний из этих дней случилось, что эта дивная Донна явилась мне облаченной в белоснежный цвет,[18] среди двух благородных донн, которые были старше ее возрастом; и, проходя по улице, она обратила очи в ту сторону, где я стоял, весьма оробев; и, по неизреченной учтивости своей, которая ныне вознаграждена в вечной жизни, она поклонилась мне столь благостно, что мне показалось тогда, будто вижу я предел блаженства.[19] Час, в который сладчайший ее поклон достался мне, был в точности девятым часом того дня; и так как в первый раз тогда излетели ее слова, дабы достичь моего слуха, то я испытал такую сладость, что словно опьяненный покинул людей[20] и уединился в своей комнате и стал размышлять об Учтивейшей. III И в размышлении о ней охватил меня сладкий сон, в котором явилось мне дивное видение: казалось мне, будто вижу я в своей комнате облако огненного цвета, за которым я различил облик некоего мужа,[21] видом своим страшного тому, кто смотрит на него; сам же он словно бы пребывал в таком веселии, что казалось это удивительным; и в речах своих он говорил многое, из чего лишь немногое я понял, а среди прочего понял такие слова: «Ego dominus tuus».[22] На руках его словно бы спало нагое существо, лишь легко прикрытое, казалось, алой тканью; и, вглядевшись весьма пристально, я узнал Донну поклона, которая за день до того удостоила меня этого приветствия. А в одной из ладоней словно бы держал он некую вещь, которая вся пылала; и мне показалось, будто он сказал следующие слова: «Vide cor tuum».[23] И после того как он постоял немного, словно бы разбудил он ту, что спала, и проявил такую силу доводов, что понудил ее съесть тот предмет, который пылал в его руке,[24] и она вкушала боязливо. Спустя немного времени веселье его обратилось в горький плач; и, плача так, вновь поднял он Донну на руки и вместе с ней стал словно бы возноситься к небу; я же испытал столь большой страх, что слабый сон мой не мог его выдержать и прервался, – и я проснулся. И тотчас же стал я размышлять; и оказалось, что час, в который явилось мне это видение, был четвертым часом той ночи, из чего ясно видно, что то был первый час последних девяти часов ночи.[25] Поразмыслив о том, что явилось мне, я решил оповестить о нем многих из тех, которые были знаменитыми трубадурами того времени; а так как я уже стал замечать в себе искусство слагать слова в стих, то и решил я сочинить сонет, в котором приветствовал бы всех верных Любви и, прося их истолковать мое видение,[26] изложил бы им то, что видел в моем сне. И тогда я начал сонет, начинающийся словами «Чей дух пленен…».[27] Чей дух пленен, чье сердце полно светом, Всем тем, пред кем сонет предстанет мой, Кто мне раскроет смысл его глухой, Во имя Госпожи Любви, – привет им! Уж треть часов, когда дано планетам Сиять сильнее, путь свершили свой, Когда Любовь предстала предо мной Такой, что страшно вспомнить мне об этом: В веселье шла Любовь; и на ладони Мое держала сердце; а в руках Несла мадонну, спящую смиренно; И, пробудив, дала вкусить мадонне От сердца, – и вкушала та смятенно. Потом Любовь исчезла, вся в слезах. Этот сонет делится на две части:[28] в первой я приветствую и прошу ответа; во второй – указываю, на что надлежит ответить. Вторая часть начинается так: «Уж треть часов…» На этот сонет ответили многие и поразному, а среди прочих ответ дал и тот, кого я именую первым из моих друзей; он сочинил тогда сонет, который начинается: «Ты видел, мнится мне, все совершенство…» И то было как бы началом дружбы между ним и мною, когда он узнал, что это я послал ему сонет. Истинный смысл описанного сна не был разгадан тогда никем,[29] ныне же он ясен и простодушнейшим. IV Со времени этого видения Природному Духу моему стало весьма затруднительно вершить свое дело, ибо душа вся предалась размышлению о Благороднейшей; поэтому в короткий срок я сделался столь слаб и немощен, что многих друзей удручал мой вид, многие же, исполнившись зависти, старались узнать от меня то, что я хотел совершенно утаить от всякого. Я же, заметив коварный умысел в вопросах, которые они задавали мне, волею Любви, правившей мною согласно совету разума, отвечал им, что Любовь так властвует надо мною; назвал же я Любовь потому, что носил на своем лице так много ее знаков, что этого нельзя было утаить. Когда же меня спрашивали: «По ком заставляет тебя так страдать Любовь?..» – я, улыбаясь, смотрел на них и ничего не отвечал им. V Однажды случилось, что Благороднейшая сидела там, где раздаются слова о Царице славы,[30] а я был на таком месте, откуда мог видеть мое блаженство; посредине же, между мной и ею, по прямой линии, сидела некая благородная донна очень приятного вида, которая часто взглядывала на меня, изумляясь моим взорам, имевшим, казалось, ее своей целью; и потому люди заметили ее взгляды. И столь многие обратили на это внимание, что, покидая то место, я слышал, как говорили сзади меня: «Взгляни, как та донна заставляет страдать этого человека». И когда они назвали ее, я услыхал, что речь идет о той, которая находилась на средине прямой черты, начинавшейся от благороднейшей Беатриче и кончавшейся в моих глазах. Тогда я вполне успокоился, уверившись, что моя тайна не была выдана в этот день моим видом. И тотчас же задумал я сделать эту благородную донну прикрытием истине; и за малое время я так успел в этом, что моя тайна казалась известной большинству тех, кто говорил обо мне. Этой донной прикрывался я несколько лет и месяцев; и, дабы еще более внушить другим веры, я сочинил для нее несколько стихотворных безделиц; но коль скоро я намереваюсь передать здесь свои слова лишь постольку, поскольку в них повествуется о благороднейшей Беатриче, то пренебрегу всеми ими, за исключением некоторых, которые передам, ибо они будут, верно, во славу ей. VI Я говорю, что в то время, когда эта донна служила прикрытием столь сильной любви, какова была моя, явилось у меня желание помянуть имя Благороднейшей, сопроводив его многими именами донн, особливо же именем этой благородной донны; и я взял имена шестидесяти наипрекраснейших донн того города, где явилась она на свет волею всевышнего Господа, и сочинил послание в форме сервентезы,[31] которого я не передам; я и вовсе не упомянул бы о нем, если бы не надобно было сказать, что во время его сочинения чудесным образом случилось так, что среди прочих имен этих донн ни под каким иным числом не пожелало стать имя моей Донны, как именно под девятью. VII Случилось, что донна, которой я столь долгое время прикрывал свое влечение, вынуждена была уехать из помянутого города и отправиться в весьма далекую страну; поэтому я, устрашенный тем, что лишился столь прекрасной защиты, испытывал немалую печаль, даже более сильную, нежели сам я мог полагать ранее. И, думая, что если не стану я говорить об ее отъезде достаточно скорбно, то люди скорее узнают о моем притворстве, решил я сочинить сонет пожалобнее; его я передам, потому что моя Донна была прямой причиной некоторых слов в этом сонете, как то явствует каждому, кто разумеет его. И тогда сочинил я сонет, который начинается «О вы, что жизнь…».[32] О вы, что жизнь путем любви стремите, Познайте и скажите, Чья, чья печаль равна моей печали? Я лишь молю: к словам моим склоните Ваш слух, – а там судите, Приют и ключ всем горестям не я ли? Дары любви чредой благих событий – Пристрастью их простите! – Меня в те дни столь щедро осыпали, Что молвь, бывало, слышал я: «Взгляните, За что фортуны нити Ему в удел всю радость жизни дали?» А ныне где обласканность моя? Кто мне вернет любви благодеянья? Тревожны ожиданья, Грядущего сокрыта колея; И вот как тот, кто, голод затая, Изза стыда не просит подаянья, – Лицом беспечен я, А на сердце – печаль и воздыханья. В этом сонете две главных части; а именно, в первой я взываю к верным Любви словами пророка Иеремии, гласящими: «О vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus»[33] и прошу их, чтобы они соблаговолили выслушать меня; во второй – рассказываю о том, куда вознесла меня любовь, но с иным смыслом, нежели тот, который явствует из двух крайних частей сонета, и говорю о том, что я утратил. Вторая часть начинается так: «Дары любви…». VIII После отъезда этой благородной донны угодно было владыке ангелов призвать ко славе своей некую донну,[34] молодую и весьма благородного облика, которая была очень любима в упомянутом городе; я видел тело ее, лежавшее бездыханным в кругу многих донн, которые очень горестно плакали. И вот, вспомнив, что однажды я видел ее спутницей Благороднейшей, не мог я удержать слез; и, плача так, решил я сказать несколько слов о ее смерти в память того, что видел ее однажды с моею Донной. Именно этого, как то очевидно каждому, кто разумеет, коснулся я в последней части тех слов, которые сказал тогда; и сочинил я два сонета, из которых первый начинается «Любовь в слезах…», а второй – «Смерть лютая…». Любовь в слезах; кто любит – плачьте с нею! Ее печаль безмерно тяжела, – Она средь донн рыдающих была, И ей вослед я плач их разумею: Смерть лютая, жестокостью своею Младое сердце тленью предала, У нежной донны прелесть отняла И только чести молвила: «Не смею!..» Теперь Любовь ей почесть воздает; Я вижу: воплощенная, рыдает Она, склонясь над прахом красоты, И часто взоры к небу обращает, Где та душа блаженно почиет, Что на земле в веселье видел ты. Этот первый сонет делится на три части: в первой – я зову и побуждаю плакать всех верных Любви, говоря, что Владычица их плачет; равно говорю и о том, что, услыхав о причине ее плача, они должны выказать больше расположения выслушать меня; во второй – я излагаю эту причину; в третьей – я говорю о почести, которую Любовь оказала этой донне. Вторая часть начинается так: «Она средь донн рыдающих…»; третья так: «Теперь Любовь…». Смерть лютая, врагиня состраданья,[35] Мать слез и воздыханья, Неистовый, нещадный судия, – Ты сердце жжешь тоской воспоминанья! В раздумиях скитанья Тебя клеймить не перестану я. Вот почему хочу, чтоб, не тая, Сказала песнь моя, Что ты виной всех зол и гореванья! Пусть миру ведомы сии признанья, Они – остереганья Тем, кто Любви не ведал бытия. Ты ласковость из мира увела, – Прекраснейшее в донне безупречной; У юности беспечной Любовное веселье отняла. Я не открою, кто она была; Ее черты – в сей песне быстротечной. Отступник жизни вечной Не распознает дивного чела. Этот сонет делится на четыре части: в первой я называю смерть подобающими ей именами; во второй, – обращаясь к ней, говорю о причине, которая побуждает меня хулить ее; в третьей – поношу ее; в четвертой – обращаюсь с речью к некой неведомой особе, которая, однако, мне вполне ведома. Вторая часть начинается так: «Ты сердце жжешь…»; третья так: «Вот почему хочу…»; четвертая так: «Отступник жизни вечной…». IX Спустя несколько дней после смерти этой донны случилось нечто побудившее меня уехать из названного города и направиться в ту сторону, где находилась благородная донна, которая служила мне защитой, хотя цель моего пути была не так далека, как то место, где находилась она. И, несмотря на то что я, хотя бы по видимости, находился в обществе многих людей, путешествие было мне так не по нраву, что вздохи мои едва могли рассеять смятение, которое испытывало сердце изза того, что отдалялось от своего блаженства. И вот сладчайшая властительница, которая правила мной ради достоинств благороднейшей Донны, явилась моему воображению в виде путника, легко одетого, в плохих тканях. Он казался мне удрученным и смотрел в землю, лишь иногда его взоры словно бы обращались к той прекрасной, и быстрой, и прозрачной речке, которая протекала вдоль дороги, где я был. И мне показалось, что путникЛюбовь окликнул меня и промолвил мне следующие слова: «Я иду от той донны, которая столь долго была тебе защитой, и мне ведомо, что спустя недолгий срок она воротится; и все же это сердце, которое я заставил тебя отдать ей, несу я теперь с собой для той донны, которая будет тебе защитой, как была эта». И он назвал мне ее по имени, так что я хорошо узнал ее. «Однако, если бы ты вздумал передать чтолибо из тех слов, что я сказал тебе, передавай так, чтобы не разоблачилась мнимая любовь, которую ты выказывал к той донне и которую тебе придется выказывать к этой». И, произнеся эти слова, мое видение вдруг исчезло, – изза того, показалось мне, что большую долю самой себя Любовь отдала мне. И вот, изменившись в лице, я верхом пустился в путь и ехал в тот день задумчивый и часто вздыхая. Спустя день я начал об этом сонет, который и начинается: «Вечор верхом…». Вечор верхом влачась одной тропой И тягостью пути томясь в тревоге, Я повстречал Любовь на полдороге, И странника на ней был плащ простой. Как у того, кто сведался с нуждой, Казалось мне, был вид ее убогий: Вздыхая, шла, и не спешили ноги, И перед встречным никла головой. Меня узрев, сказала: «Покидаю Я навсегда далекие края, Где службу сердца нес ты столь примерно. Теперь другой послужишь благоверно…» И этим словом так смутился я, Что как она исчезла, – я не знаю. В этом сонете три части: в первой части я говорю о том, как я встретил Любовь и какой она мне показалась; во второй передано то, что она мне сказала, хотя и не все, из страха раскрыть свою тайну; в третьей говорю, как она исчезла от меня. Вторая начинается так: «Меня узрев…»; третья: «И этим словом…». X По возвращении я стал искать ту донну, которую владычица моя назвала мне на дороге вздохов; но для того чтобы мой рассказ был короче, я скажу лишь, что за малое время я настолько сделал ее своей защитой, что много людей толковало об этом вне границ благоприличия, – о чем не раз я думал с сокрушением. По этойто причине, то есть изза этих клевещущих слухов, которые обвиняли меня в порочности, Благороднейшая, что была разрушительницей всех пороков и царицей добродетелей, проходя по городу, отказала мне в сладчайшем своем поклоне, в котором заключалось все мое блаженство.[36] И, несколько отклонившись от того, о чем я ныне повествую, хочу я объяснить, какое благостное действие оказывал на меня ее поклон. XI Говорю я: когда она появлялась с какойнибудь стороны, то одна надежда на дивный ее поклон изгоняла все злое во мне и возжигала пламя милосердия, которое заставляло меня прощать всякому обидевшему меня. И если бы спросили меня тогда о чемнибудь, то ответ мой был бы лишь один: «Любовь…» – и лицо мое исполнено было смирения. А когда приближалось уже мгновение поклона, Дух Любви,[37] уничтожив всех других чувственных духов, гнал наружу слабых Духов Зрения и говорил им: «Ступайте воздать честь Госпоже вашей», – а сам становился на их место. И если бы ктонибудь захотел познать Любовь, тот мог бы сделать это, созерцая трепет моих очей. Когда же Благороднейшая отдавала поклон, Любовь не только не была препятствием, заслоняющим от меня невыносимое блаженство, но сама как бы от избытка сладости становилась такой, что тело мое, находившееся вполне в ее власти, не раз двигалось тогда словно тяжелый и безжизненный предмет. Из этого явствует, что в ее поклоне заключалось мое блаженство, которое во много раз превышало и превосходило мои силы. XII Теперь, возвращаясь к предмету моего повествования, скажу, что, после того как мне было отказано в моем блаженстве, охватила меня столь великая скорбь, что, убегая от людей, удалился я в уединенное место орошать землю горькими слезами; а потом, когда эти слезы немного поутихли, я пошел в свое жилище, туда, где я мог печалиться, не боясь быть услышанным. И здесь, взывая к милосердию Госпожи учтивости и произнеся: «Любовь, помоги верному твоему!» – я уснул в слезах, точно прибитое дитя. И случилось в середине моего сна, что мне показалось, будто вижу я в моем жилище отрока, сидящего возле меня и одетого в белоснежные одежды; он же глядел с весьма задумчивым видом туда, где неподвижно лежал я; и после того как некоторое время он так глядел на меня, почудилось мне, будто он окликнул меня и сказал такие слова: «Fili mi, tempus est ut praetermittantur simulacra nostra».[38] Тогда показалось мне, будто я его узнал, ибо он окликнул меня так, как много раз в снах моих уже окликал меня; и, взглянув на него, я будто бы увидел, что он жалобно плачет и словно бы ждет от меня ответа; и вот, осмелев, я стал так говорить с ним: «Властитель благородства, отчего плачешь ты?» Он же ответил мне такими словами: «Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiae tu autem non sic».[39] Когда я поразмыслил о его словах, показалось мне, что он ответил мне весьма темно, поэтому я понудил себя заговорить и сказал ему такие слова: «О чем это, Господин мой, ты говоришь мне столь темно?» – на что он ответил мне простонародной речью: «Не спрашивай более того, нежели тебе полезно знать». И вот стал я с ним рассуждать о том поклоне, в котором мне было отказано, и спросил его о причине; на это он ответил мне вот каким образом: «Наша Беатриче слыхала от неких людей, говоривших о тебе, что та донна, которую я назвал тебе на дороге вздохов, испытала изза тебя обиду; и потому Благороднейшая, которая есть недруг всяких обид, не удостоила поклоном твоей особы, боясь и сама подвергнуться обиде. А так как ей, быть может, отчасти известна твоя тайна, ибо давно она знает тебя, то я желаю, чтобы ты сложил несколько стихов, в которых рассказал бы о власти, какую я обрел над тобой ради нее, и о том, что ты принадлежал ей от раннего младенчества. В свидетели же этому призови того, кто об этом знает, и скажи, что ты просишь его поведать ей об этом; я же – ибо я сам и есть тот свидетель – охотно растолкую это ей, и так она узнает о твоем влечении, а узнав, оценит и речи хулителей. Слова же ты расположи так, чтобы они были как бы посредниками, но не обращайся прямо к ней, ибо это не пристало, и остерегись посылать их без меня куданибудь, где она могла бы их услышать, но изукрась сладостными созвучиями, в которых я пребуду всякий раз, как в том будет надобность». И, произнеся эти слова, он исчез, – и сон мой прервался. Я же, пораздумав, нашел, что это видение явилось мне в девятый час дня; и я решил, прежде чем покину свое жилище, сочинить балладу[40] и в ней исполнить то, что повелел мне мой господин; и вот я сочинил следующую балладу, которая и начинается «Баллада, ты…». Баллада, ты должна найти Любовь И вместе с ней предстать перед мадонной, Чтоб слух ее, к мольбе моей склоненный, Владычица наполнила бы вновь. Ты убрана, баллада, так красно, Что без сопровожденья Могла б везде радушие найти; Но если сердце страхом смущено, Зови без промедленья С собой Любовь, – вдвоем верней идти: Ведь та, кому должна ты весть нести, Ко мне враждой, я знаю, воспылала, И если б ты одна пред ней предстала, Она могла б не внять твоим словам. И ты придешь и, сладостно звеня, Промолвишь так пред нею, О жалости стараясь умолить: «Мадонна, тот, кто к вам послал меня, Взывает, да посмею Его защитницей пред вами быть: Ведь то Любовь стремится изменить Его черты пред вашей красотою, Любовь велит склониться пред другою, – Прост умысел, и сердце верно вам». Скажи: «Мадонна, крепости такой Исполнена в нем верность, Что только вами мысль его полна, Затем, что ваш он – и ничей другой». Что то – не лицемерность, Пусть у Любви разведает она. Но если, недоверьем смущена, Она в прощенье все же мне откажет, Пусть чрез гонца мне умереть прикажет, И, верный раб, я тотчас жизнь отдам. Проси и ту, кто – жалости приют, Да медлит возвращеньем, Пока не сдержит слова своего: «Во имя строф, что сладостно поют, Не отступай моленьем И вызволи холопа своего». И ежели она простит его, Пусть поспешит к нему его отрада. Ступай же в путь, любезная баллада, – Лети навстречу благостным вестям! Эта баллада делится на три части; в первой я говорю, куда ей идти, и ободряю ее, дабы она шла уверенно, и говорю, кого надлежит ей взять спутником, ежели она хочет идти уверенно и безо всякой опасности; во второй – говорю о том, что надлежит ей передать; в третьей – позволяю ей пуститься в дорогу, когда захочет, отдавая ее путь в руки судьбы. Вторая часть начинается так: «И ты придешь и, сладостно звеня…»; третья так: «Ступай же в путь, любезная баллада…». Иной может упрекнуть меня и сказать, что непонятно, к кому обращена моя речь во втором лице, поскольку сама баллада есть не что иное, как те слова, которые я говорю; на это отвечу, что эту неясность я намереваюсь устранить и разъяснить в еще более неясной части этой книжки;[41] и тогда это поймет всякий, кто адесь усомнился и кто хотел бы упрекнуть меня. XIII После этого описанного выше видения, когда были уже сказаны слова, которые Любовь повелела мне сказать, стали во мне бороться и испытывать меня много разных дум, каждая почти неодолимо. Среди этих дум четыре, казалось мне, особенно сильно нарушали покой моей жизни. Одна из них была такова: «Благостно господство Любви, ибо оно отклоняет стремление верных ей от всего дурного». Другая была такова: «Нет, не благостно господство Любви, ибо чем более доверия ей оказывает верный ей, тем более тягостные и горькие мгновения вынужден он испытать». Еще одна была такова: «Имя Любви сладостно слышать, – поэтому невозможно, кажется мне, чтобы и действие ее не было по большей части сладостным, при том, что названия соответствуют названным вещам, как написано о том: «Nomina sunt consequentia rerum».[42] Четвертая была такова: «Донна, ради которой Любовь так утесняет тебя, не такова, как другие донны, и не легко тронуть ее сердце». И каждая из этих дум так одолевала меня, что принуждала останавливаться, подобно путнику, который не знает, какой дорогой направить свой шаг, или тому, кто хочет идти, но не знает куда. Когда же приходило мне на ум отыскать общий им путь, такой, где они все могли бы согласоваться между собою, то путь этот оказывался еще более враждебным мне, принуждая призывать Жалость и отдать себя в ее руки. И вот, пребывая в таком состоянии, я почувствовал желание написать стихи, и я сочинил тогда сонет, который начинается «Все помыслы…». Все помыслы мне о Любви твердят, Но как они несхожи меж собою: Одни влекут своею добротою, Другие мне неистово грозят; Одни надеждой сладостной дарят, Другие взор не раз темнят слезою; Лишь к Жалости согласною тропою Стремит их страх, которым я объят. За кем идти, увы, не знаю я. Хочу сказать, но что сказать, не знаю. Так средь Любви мне суждено блуждать. Когда ж со всеми мир я заключаю, То вынужден я недруга призвать, МадоннуЖалость, защитить меня. Этот сонет делится на четыре части: в первой я говорю и показываю, что все мои мысли – о Любви; во второй – говорю, что они различны меж собой, и обнаруживаю их разность; в третьей – говорю, в чем они согласны друг с другом; в четвертой – говорю, что, желая сказать о Любви, я не знаю, с какой стороны сделать приступ. Когда же я пытаюсь приступить со всех сторон, то приходится мне призывать недруга моего, мадоннуЖалость; называя же ее «мадонной», прибегаю я к этому слову как бы презрительно. Вторая часть начинается так: «Но как они несхожи…»; третья – так: «Лишь к Жалости…»; четвертая так: «За кем идти, увы…». XIV После этой битвы противоположных мыслей случилось, что Благороднейшая явилась в некое место, где собрались многие благородные донны; в то место был приведен и я дружественной мне особой, думавшей, что доставит мне великое удовольствие, приведя туда, где так много донн являли свою красоту. Я же, не догадываясь, куда ведут меня, и доверившись особе, которая проводила своего друга до пределов жизни, сказал: «Зачем пришли мы к этим доннам?» На это был мне ответ: «Чтобы было кому достойно служить им». А на самом деле они собрались сюда как подруги некой благородной донны, которая в тот день венчалась; и поэтому, согласно обыкновению названного города, им надлежало разделить с ней первую трапезу, которую она вкушала в доме своего молодого супруга. И вот я, думая доставить удовольствие этому другу, решил прислуживать донне и подругам ее. И только лишь принял я решение, как почувствовал, что дивный трепет начался в моей груди, с левой ее стороны, и тотчас же распространился по всему моему телу. И вот, говорю, словно бы нечаянно прислонился я к картине, украшавшей кругом стены этого дома; и, боясь, как бы другие не заметили моего трепета, поднял я глаза и, взглянув на донн, увидел между ними благороднейшую Беатриче. Тогда Духи мои были настолько уничтожены силой, которую обрела Любовь, видя себя в такой близости к благороднейшей Донне, что в живых остались лишь Духи Зрения; но и эти были далеко от орудий своих, ибо Любовь пожелала занять их почетнейшее место, дабы лицезреть дивную Донну; и, хотя сам я стал уже не таким, как прежде, все же мне было жалко этих маленьких Духов, которые сильно плакали и говорили: «Если бы она не согнала нас с нашего места, мы могли бы лицезреть, какое диво являет собой эта Донна, – как то делают другие, такие же, как мы». Я говорю, что многие из этих донн, заметив перемену во мне, стали дивиться и, толкуя, смеялись надо мной вместе с Благороднейшей; тогда, заметив это, мой обманутый друг, соболезнуя мне, взял меня за руку и, уведя прочь от этих донн, спросил, что со мной. Когда же я немного отдохнул и мертвые духи мои воскресли, а изгнанные вернулись на свои места, я сказал моему другу такие слова: «Я сделал шаг в ту часть жизни, где нельзя уже идти далее, ежели хочешь воротиться».[43] И, покинув его, я вернулся в убежище слез, где, плача и стыдясь, сказал самому себе: «Если бы Донна знала о моем положении, она, думается, не смеялась бы так надо мной, но, верно, прониклась бы великой жалостью». И, не переставая плакать, я вознамерился сказать слова и в них, обращаясь к ней, объяснить причину моей перемены и поведать, что хорошо знаю, что она не знала ее, а ежели бы знала, то, думается, всех охватила бы жалость. Вознамерился же я сказать эти слова потому, что хотел, чтобы они какнибудь дошли до ее слуха. И вот я сочинил сонет, который начинается «Вы меж подруг…». Вы меж подруг смеялись надо мною, Но знали ль вы, мадонна, отчего Нельзя узнать обличья моего, Когда стою пред вашей красотою? Ах, знали б вы – с привычной добротою Вы не сдержали б чувства своего: Ведь то Любовь, пленив меня всего, Тиранствует с жестокостью такою, Что, воцарясь средь робких чувств моих, Иных казнив, других услав в изгнанье, Она одна на вас свой взор стремит. Вот отчего мой необычен вид! Но и тогда изгнанников своих Так явственно я слышу гореванье. Этот сонет я не делю на части, ибо деление совершается лишь для того, чтобы раскрыть смысл подразделяемого сочинения: вот отчего, поскольку повод к нему истолкован ранее, сонет весьма ясен и нет нужды в делении. Правда, среди слов, разъясняющих повод этого сонета, имеются и темные слова, а именно там, где я говорю, что Любовь убивает всех моих Духов и лишь Духи Зрения остаются в живых, но только вдали от своих орудий. Но эту темноту невозможно прояснить для тех, кто не был в подобной же мере приобщен Любви. Для тех же, которые приобщены ей, явно то, что может прояснить темноту этих слов; поэтомуто не пристало мне толковать подобные темноты, ибо истолкование сделало бы слова мои напрасными или излишними. XV После новой моей перемены мной овладела неотвязная мысль, которая ни на миг не покидала меня, но возникала во мне все снова; и так рассуждал я с самим собою: «Если вид твой столь смехотворен, когда ты находишься близ Донны, то для чего же ищешь ты увидеть ее? А вдруг она обратилась бы к тебе с вопросом, – что мог бы ты ответить, даже если бы свободно владел всеми своими способностями для ответа ей?» Ответ на это давала другая, смиренная мысль, говоря: «Если бы я не терял моих сил и владел бы собою настолько, что мог бы держать ответ, я сказал бы ей, что едва только я представлю себе дивную ее красоту, как тотчас же овладевает мной желание увидеть ее, и столь оно сильно, что убивает и уничтожает в моей памяти все, что могло бы восстать против него: вот почему не удерживают меня былые страдания от стремления увидеть ее». И вот, побуждаемый подобными мыслями, я решил сказать несколько слов, в которых, принося ей повинную за тот упрек, я поведал бы также и о том, что происходит со мной близ нее. И я сочинил сонет, который начинается «Все, что мятежно…». Все, что мятежно в мыслях, умирает При виде вас, о чудо красоты. Стою близ вас, – Любовь остерегает: «Беги ее иль смерть познаешь ты». И вот лицо цвет сердца отражает, Опоры ищут бледные черты, И даже камень словно бы взывает[44] В великом страхе: «Гибнешь, гибнешь ты!..» Да будет грех тому, кто в то мгновенье Смятенных чувств моих не оживит, Кто не подаст мне знака ободренья, Кто от насмешки злой не защитит, Которой вы, мадонна, отвечали Моим очам, что смерти возжелали. Этот сонет делится на две части: в первой я говорю о причине, по какой не могу удержаться и не приблизиться к Донне; во второй – говорю о том, что происходит со мною при приближении к ней; начинается она так: «Стою близ вас…». В свою очередь, эта вторая часть подразделяется на пять, соответственно пяти различным предметам, о коих я повествую, а именно: в первой я говорю о том, что говорит мне Любовь, направляемая разумом, когда я нахожусь близ Донны; во второй, – описывая лицо, даю понять, что творится с сердцем; в третьей – говорю, что вся бодрость покидает меня; в четвертой – говорю, что грешит тот, кто не выказывает жалости ко мне, дабы дать мне ободрение; в последней – говорю, почему другие должны были бы испытывать жалость, а именно – изза того, что взыскующим жалости становится взгляд моих глаз; однако этот взыскующий жалости взгляд уничтожается, то есть не достигает других, изза насмешек Донны, увлекающей к подобным же действиям тех, которые, может быть, и приметили бы, что я прошу о жалости. Вторая часть начинается так: «И вот лицо…»; третья так: «И даже камень…»; четвертая: «Да будет грех тому…»; пятая: «Кто от насмешки злой…». XVI После того как сочинил я этот сонет, явилось у меня желание сказать новые слова, в которых я поведал бы еще четыре вещи о моем состоянии, ибо они, думалось мне, не были еще изъяснены мною. Первая из них – та, что я много раз печалился, когда моя память побуждала воображение представить себе, чем сделала меня Любовь. Вторая – та, что часто Любовь внезапно шла на меня приступом с такой силой, что живой оставалась во мне лишь мысль, говорившая о Донне. Третья – та, что, когда Любовь шла в бой на меня, я искал, побледнев, лицезреть Донну, надеясь, что ее вид защитит меня от этого нападения, и забывая о том, что происходит со мною при приближении к такой благодати. Четвертая – та, что подобное лицезрение не только не давало мне защиты, но и вконец уничтожало во мне малый остаток жизни. И вот сочинил я сонет, который и начинается «Не раз теперь…». Не раз теперь средь дум моих встает То тяжкое, чем мне Любовь бывает, И горько мне становится – и вот Я говорю: увы! кто так страдает? Едва Любовь осаду поведет, Смятенно жизнь из тела убегает; Один лишь дух крепится, но и тот Со мной затем, что мысль о вас спасает. В тот миг борюсь, хочу себе помочь И, мертвенный, бессильный от страданья, Чтоб исцелиться, с вами встреч ищу; Но лишь добьюсь желанного свиданья, Завидя вас, вновь сердцем трепещу, И жизнь из жил опять уходит прочь. Этот сонет делится на четыре части, соответственно четырем вещам, которые изложены в нем; а так как разъяснение им дано прежде, я лишь разграничу части, соответственно их началу, поэтому я скажу, что вторая часть начинается так: «Едва Любовь…»; третья так: «В тот миг борюсь…», четвертая: «Но лишь добьюсь…». XVII После того как я сочинил эти три сонета, в которых обращался к Донне, я принял решение, ввиду того что они рассказали почти все о моем состоянии, умолкнуть и не сочинять больше, ибо мне казалось, что я достаточно рассказал о себе; однако, хотя с тех пор я и молчал о ней, приходится мне начать повествование о предмете новом и более благородном, нежели прежде. И хоть о поводе к этому новому предмету приятно услышать, я скажу о нем настолько кратко, насколько смогу. XVIII Так вот, изза того что по моему виду много лиц поняли тайну моего сердца, некие донны, которые собрались, дабы развлечься в обществе друг друга, знали хорошо мое сердце, ибо каждая из них присутствовала при многих моих потрясениях. И когда я, точно ведомый судьбою, проходил мимо них, меня окликнула одна из этих благородных донн. Донна, что окликнула меня, была весьма изящна и искусна в речах. И вот когда я приблизился и ясно увидел, что благороднейшей моей Донны не было среди них, то, приободрившись, я поклонился и спросил, что им угодно. Донн было много; одни из них смеялись между собой, другие глядели на меня, ожидая, что могу я сказать им, иные же вели друг с другом беседу. Одна из них, обратив на меня взоры и назвав меня по имени, произнесла такие слова: «Изза чего любишь ты эту свою Донну, если ты не в силах вынести ее присутствие? Поведай нам об этом, ибо, несомненно, цель подобной любви должна быть весьма необычной». И после того как она сказала мне эти слова, не только она, но и все прочие стали, по видимости, ожидать моего ответа. Тогда я сказал им такие слова: «Госпожи мои, целью моей Любви некогда был поклон той Донны, о которой, видимо, вы говорите, и в этом заключалось блаженство, которое и есть цель всех моих желаний. Но после того как ей было угодно отказать мне в нем, моя властительница, Любовь, по милости своей, заключила все мое блаженство в нечто такое, чего меня уже нельзя лишить». Тогда эти донны стали переговариваться между собой; и подобно тому как мы видим, что дождь падает, порой смешавшись со снегом, так и мне казалось, будто я слышу, как исходят их слова, смешавшись со вздохами. И после того как они немного поговорили между собой, та донна, которая первая со мной заговорила, обратилась ко мне опять с такими словами: «Мы просим тебя сказать нам, в чем заключается это твое блаженство». Я же, отвечая ей, сказал так: «В тех словах, что славят мою Донну». Тогда ответила та, что со мной беседовала: «Если бы ты говорил правду, тогда те слова, которые ты сложил, изъясняя свое состояние, были бы употреблены тобой с какимто иным смыслом».[45] Тут я, поразмыслив об этих словах, удалился от тех донн, точно бы устыдясь, и пошел, говоря самому себе: «Если такое блаженство заключается в тех словах, что славят мою Донну, то отчего же иными были мои речи?» И вот я решил избрать предметом моих слов отныне только хвалу Благороднейшей;[46] и, много поразмыслив об этом, я подумал, что избрал для себя слишком высокий предмет, и поэтому не осмеливался приступить; так и провел я несколько дней, желая сочинять и боясь приступить. XIX Спустя недолгое время случилось, что, проезжая дорогой, вдоль которой бежала прозрачная речка, был я объят столь сильным желанием сочинять, что стал думать о том, как бы мне приступить к этому; и я подумал, что не пристало мне говорить о ней иначе, как обращаясь к доннам во втором лице,[47] и притом лишь к тем доннам, что благородны, а не просто ко всем женщинам. И вот что скажу я: язык мой заговорил как бы сам собой и молвил: «О донны, вам, что смысл Любви познали…» Эти слова я закрепил в памяти с великой радостью, думая взять их началом, и потом, возвратясь в названный город и поразмыслив несколько дней, я начал этим приступом канцону,[48] сложенную так, как это будет видно ниже, в ее разделении. Канцона начинается так: «О донны, вам…». О донны, вам, что смысл Любви познали,[49] Я стану о мадонне говорить, – Не для того чтоб ей хвалу избыть, Но дабы утишить мое томленье. Скажу: Любовь дала моей печали Столь сладостное чувство ощутить, Что, если б я дерзнул его открыть, Познал бы мир любовное волненье. Но не предам благое откровенье, Не столь мое развратно бытие: Я расскажу о доблестях Ее Намеками, как мне велит почтенье, О донны и девицы, – вам одним, Зане о том невместно знать другим. Взывает ангел к божью разуменью И говорит: «Владыка, на земле Есть существо, что светит и во мгле, – Душа, чей луч достиг небесной грани. Не склонен Рай к иному вожделенью, Как сочетать ее своей судьбе.[50] Сонм праведных зовет ее к себе, И только Жалость вяжет наши длани». И рек Господь, судья всех упований: «Нет, милые, вам должно подождать, Еще не мыслю я ее призвать, Но да пребудет средь земных созданий С тем, кто расскажет аду: «Племя злых, Я видел упование благих».[51] Мадонну ждут у горнего престола. Я изъясню, как благостна она, – О донны, та, что чести ждет, должна Идти за нею, где она ступает; Любовь сердца морозом прополола, И мерзость в них навек изведена; Пред кем пройдет, красой озарена, Тот делается благ иль умирает; Кого она достойным почитает Приблизиться, тот счастьем потрясен, Кому отдаст приветливо поклон, Тот с кротостью обиды забывает. И бо́льшую ей власть Господь дает: Кто раз ей внял, в злодействах не умрет. Любовь гласит: «Дочь праха не бывает Так разом и прекрасна и чиста…» Но глянула – и уж твердят уста, Что в ней Господь нездешний мир являет. Ее чело как жемчуг, где мерцает Прозрачно разлитая бледнота; Себя в ней доказует красота, А естество – всю благость воплощает. Из глаз ее, когда она взирает, Несутся духи в пламени любви И мечут встречным молнии свои, И сердце в них биение теряет. Ее улыбку вывела Любовь: Кто раз взглянул, тот не дерзает вновь. Канцона, знаю, ты полна стремленья Явиться к доннам, – не перечу я! Но памятуй: я воспитал тебя Как дщерь Любви, таящейся под спудом. Так будь везде исполнена смиренья, Проси: «Наставьте, где стезя моя? Ищу я ту, кому подобна я». Не подавай предлога к пересудам, Не заводи знакомства с подлым людом, Но почитай достойным там присесть, Где знатный муж или где донна есть, – И путь тебе откроется как чудом, И вскорости Любовь ты различишь И ей уже меня препоручишь. Эту канцону, дабы лучше ее понять, я разделяю более искусно, нежели другие прежде приведенные вещи. Поэтому, для начала, я разобью ее на три части. Первая часть есть приступ к последующим словам. Вторая есть изложение содержания. Третья есть как бы служанка предыдущих слов. Вторая начинается так: «Взывает ангел…»; третья так: «Канцона, знаю…». Первая часть делится на четыре: в первой – говорю о том, кому хочу я поведать о моей Донне и почему хочу поведать; во второй – говорю о том, что мыслится мне самому, когда я размышляю о ее достоинствах, и что сказал бы я о них, если бы не терял смелости; в третьей – говорю о том, как полагаю я поведать о ней, чтобы ничто низменное не препятствовало мне; в четвертой – обращаюсь вновь к тем, кому намереваюсь все поведать, я излагаю причину, по которой я обращаюсь к ним. Вторая начинается так: «Скажу: Любовь дала…»; третья так: «Но не предам…»; четвертая: «О донны и девицы…». Потом, когда говорю: «Взывает ангел…» – и я начинаю повествование о Донне. Делится же эта часть на две: в первой – говорю о том, что знают о ней на небе; во второй – говорю о том, что знают о ней на земле, а именно: «Мадонну ждут…». Эта вторая часть делится на две, причем в первой я беру одну лишь сторону и говорю о благородстве ее души, повествуя нечто о благотворных свойствах, от души ее проистекающих; во второй беру я другую сторону и говорю о благородстве ее тела, повествуя нечто о его красоте, а именно: «Любовь гласит…». Эта вторая часть делится на две, причем в первой – говорю нечто о красоте всего ее облика; во второй – говорю нечто о красоте отдельных частей ее облика, а именно: «Из глаз ее…». Эта вторая часть делится на две, причем в одной я говорю о глазах, в которых начало Любви; во второй же говорю об устах, в которых предел Любви. А чтобы изгнать отсюда всякую низменную мысль, должно читающему вспомнить сказанное прежде, а именно, что приветствие Донны, которое есть деяние уст ее, было пределом моих желаний, пока я мог еще обрести его. Затем, когда я говорю: «Канцона, знаю…», я добавляю, как бы служанкою прочих, еще одну строфу, в которой говорю о том, чего хочу я от этой канцоны. А так как эту последнюю часть легко понять, то я и не тружусь над дальнейшим разделением. Правда, для лучшего разумения этой канцоны надлежало бы дать еще меньшие подразделения, однако, во всяком случае, у кого нет достаточно разумения, чтобы понять ее с помощью уже сделанных, – на того я не посетую, ежели он и пренебрежет ею, ибо истинно боюсь, как бы не раскрыл я слишком многим ее смысл тем разделением, которое сделано, если окажется, что многие сумеют постичь его. XX После того как эта канцона получила некоторое распространение среди людей и потому случилось, что один из друзей моих услыхал ее, – пожелал он меня попросить, чтобы я ему изъяснил, что есть Любовь: видно, слышанные им слова внушили ему более высокое обо мне мнение, нежели я заслужил. Поэтому я, думая, что по окончании того сочинения хорошо было бы сочинить коечто о Любви, и полагая, что другу следует услужить, решил сказать слова, в которых говорилось бы о Любви. И вот я сочинил сонет, который и начинается «Благое сердце и Любовь…». Благое сердце и Любовь – одно,[52] Вещает нам мудрец в своем творенье: В разладе быть им так же не дано, Как разуму с душой разумной в пренье. Когда Любовью сердце зажжено, Она царит, а сердце – в подчиненье, И верный кров Любви дает оно На долгий срок иль краткое мгновенье. Прекрасной донны дивные черты Едва предстанут взору, – и томленье Влюбленное по сердцу пробежит. Приходит срок – и вот уж чуешь ты Любви нежданной новое рожденье; И так же донну гордый муж пленит. Этот сонет делится на две части: в первой я говорю о могуществе любви; во второй – говорю о том, как это могущество проявляется в действии. Вторая начинается так: «Прекрасной донны…». Первая часть делится на две: в первой я говорю, что есть предмет, который вмещает это могущество; во второй – говорю, как предмет этот и это могущество возникают к существованию и что они относятся друг к другу, как форма к материи. Вторая начинается так: «Когда Любовью…». Потом, говоря: «Прекрасной донны…», я говорю, как это могущество проявляется в действии: сначала – как оно проявляется в мужчине, потом – как оно проявляется в женщине, – со слов «И так же донну…». XXI После того что я поведал о Любви в вышенаписанных стихах, явилось у меня желание сказать еще слова во славу Благороднейшей, дабы в них я показал, как она пробуждает эту Любовь и как не только пробуждает она ее там, где та дремлет, но как и туда, где нет власти Любви, она чудодейственно призывает ее. И вот я сочинил сонет, который начинается «В своих очах…». В своих очах Любовь она хранит;[53] Блаженно все, на что она взирает; Идет она – к ней всякий поспешает; Приветит ли – в нем сердце задрожит. Так, смутен весь, он долу лик склонит И о своей греховности вздыхает. Надмение и гнев пред нею тает. О донны, кто ее не восхвалит? Всю сладостность и все смиренье дум Познает тот, кто слышит ее слово. Блажен, кому с ней встреча суждена. Того ж, как улыбается она, Не молвит речь и не упомнит ум: Так это чудо благостно и ново. В этом сонете три части: в первой я говорю, как Донна проявляет это могущество в действии, повествуя о ее очах, прекраснейших в ней; и то же говорю я в третьей, повествуя о ее устах, прекраснейших в ней; а между этими двумя частями есть небольшая частичка, словно бы взывающая о помощи к предшествующей части и к последующей и начинающаяся так: «О донны, кто…». Третья начинается так: «Всю сладостность…». Первая часть делится на три: в первой я говорю о том, как благостно наделяет она благородством все, на что она взирает, – а это значит сказать, что она приводит Любовь ко власти там, где ее нет; во второй я говорю, как она пробуждает действие Любви в сердцах всех, на кого она взирает; в третьей – говорю о том, что творит она благостью своей в их сердцах. Вторая начинается так: «Идет она…»; третья так: «Приветит ли…». Потом, когда говорю: «О донны, кто…» – поясняю, кого имел я в виду, взывая к доннам, дабы они помогли восхвалить ее. Потом, когда говорю: «Всю сладостность…» – я говорю то же самое, что сказано в первой части, повествуя о том, что двояко действие ее уст; одно из них – ее сладчайшая речь, а другое – ее дивный смех; я не говорю лишь о том, что производит в сердцах ее смех, потому что память не в силах удержать ни его, ни его действия. XXII После этого, по прошествии немногих дней, согласно воле преславного Господа, который не отклонил смерти и от себя, тот, кто был родителем столь великого чуда, каким была благороднейшая Беатриче (то видели все), уходя из этой жизни, истинно отошел к вечной славе.[54] А так как подобная разлука горестна для всех, кто остается и кто был другом ушедшего; и так как нет более тесной привязанности, нежели у доброго отца к доброму дитяти и у доброго дитяти к доброму отцу; и так как Донна обладала высочайшей степенью доброты, а отец ее, согласно мнению многих и согласно с истиной, был добр в высокой степени, – то и очевидно, что Донна была преисполнена самой горькой скорби. А так как, по обычаю названного города, донны с доннами и мужчины с мужчинами собираются в подобных горестных случаях, то много донн собралось там, где Беатриче жалостно плакала, и вот, видя, как возвращаются от нее некоторые донны, я слышал их речи о Благороднейшей, о том, как печалилась она; и в числе прочих речей слышал я, как они говорили: «Истинно она плачет так, что любой, кто взглянет на нее, непременно умрет от жалости». Затем прошли эти донны мимо; я же остался в такой печали, что порою слеза орошала мое лицо, почему я прикрывал его, поднося часто руки к глазам; и, если бы я не ожидал вновь услыхать о ней – ибо находился на таком месте, где проходило большинство донн, которые возвращались от нее, – я скрылся бы тотчас же, как только слезы овладели мной. Так я остался на том же месте, и мимо меня проходили донны, которые шли, говоря друг другу такие слова: «Кто из нас мог бы вновь стать веселым, услышав, как горько жалуется эта донна?» Вслед за ними проходили другие донны, которые шли, говоря: «Этот, стоящий здесь, плачет так, словно он видел ее, как видели мы». Другие, далее, говорили обо мне: «Поглядите, этот на себя не похож – так изменился он!» Так проходили эти донны мимо, и я слышал речи о ней и обо мне того рода, как мною передано. И вот, поразмыслив об этом после, я решил сказать слова, – для чего у меня был достойный повод, – в которых было бы все то, что я слышал о Донне; а так как я охотно расспросил бы их, если бы меня не удерживало приличие, то я и решил представить дело так, как будто я задавал им вопросы, а они держали ответ. И сочинил я два сонета; причем в первом я задаю вопросы так, как у меня было желание расспросить их; во втором – привожу их ответ, принимая то, что я услыхал от них, за сказанное в ответ мне. И я начал первый сонет: «Вы, что проходите с главой склоненной…», а второй – «Не ты ли тот, чей стих, не умолкая…». Вы, что проходите с главой склоненной, Чей дольный взор о скорби говорит, – Откуда вы? И почему ваш вид Мне кажется печалью воплощенной? Не с благостной ли были вы мадонной? Любовь слезами лик ее кропит? Скажите, правду ль сердце мне твердит? – Ведь нет у вас черты непросветленной. И если вы оттуда путь стремите, Тогда молю: побудьте здесь со мной И, что б с ней ни было, – не утаите! Я вижу очи, полные слезой, В таком смятенье, вижу, вы спешите, Что в сердце трепет, словно пред бедой. Этот сонет делится на две части: в первой я окликаю и спрашиваю этих донн, не от нее ли они идут, говоря им, что я думаю так потому, что они возвращаются, словно обретя еще больше благородства; во второй – прошу их, чтобы они рассказали мне о ней. Вторая начинается так: «И если вы оттуда…». И вот другой сонет, как то рассказали мы выше: Не ты ли тот, чей стих, не умолкая, Мадонну пел, взывая к нам одним? Ты схож с ним, правда, голосом своим, Но у тебя как будто стать иная. О чем скорбишь, так тягостно рыдая, Что жаль тебя становится другим? Ты горе ль зрел ее? – и перед ним Унынья ты не можешь несть, скрывая? Оставь нас плакать и идти в печали, И грех тому, кто радость будет знать, – Не мы ли ей, рыдающей, внимали? В ее лице такой тоски печать, Что тот, чьи очи взор к ней устремляли. Рыдая, смерти должен ожидать. В этом сонете четыре части, согласно тому, что четыре рода ответов дали те донны, за которых я говорил; а так как выше все четыре достаточно разъяснены, то я и не стану излагать смысл частей, но лишь подразделю их. Вторая часть начинается так: «О чем скорбишь…»; третья: «Оставь нас плакать…»; четвертая: «В ее лице…». XXIII После этого спустя немного дней[55] случилось, что одну из частей моего тела охватила мучительная болезнь, так что я непрерывно терпел в течение девяти дней горчайшую муку; и она довела меня до такой немощи, что мне пришлось лежать подобно тем, которые не могут двигаться. И вот, говорю я, на девятый день,[56] когда я почувствовал боль, почти непереносимую, пришла мне некая мысль, и была та мысль о моей Донне. И когда я немного пораздумал о ней, то вернулся к размышлению об ослабевшей моей жизни. И, видя, как она слаба и не прочна, даже когда здорова, стал я оплакивать про себя такое злосчастие. И вот, сильно вздыхая, я сказал себе: «Со всей неизбежностью следует, что и благороднейшая Беатриче когданибудь умрет». И тогда меня охватило столь сильное помрачение, что я закрыл глаза и стал мучиться, как человек безумный, и бредить так: в начале блуждания, которое совершило мое воображение, привиделись мне некие облики простоволосых донн, говоривших мне: «И ты тоже умрешь!» Затем, после этих донн, явились мне разные привидения, страшные на вид, которые сказали мне: «Ты мертв». И вот так стало блуждать мое воображение, и я дошел до того, что не знал, где нахожусь; и казалось мне, будто вижу я донн, идущих, распустив волосы и плача, по дороге, дивно грустных; и казалось мне, будто вижу я, что солнце потухло, а звезды были такого цвета, что мог я счесть, будто они плачут, и казалось мне, что птицы, пролетавшие по воздуху, падали мертвыми и что происходили величайшие землетрясения.[57] И в то время как я дивился подобному видению и очень боялся, привиделось мне, что некий друг пришел мне сказать: «Ужели ты не знаешь? Дивная твоя Донна отошла от мира сего!» Тогда я стал горестно плакать и плакал не только в воображении: плакали очи, орошаясь настоящими слезами. И привиделось мне, будто я смотрю на небо, и показалось, что я вижу множество ангелов,[58] которые возвращались в высь, а перед ними было белейшее облачко. Мне показалось, что ангелы эти торжественно пели, и слова их песни были точно бы слышны мне, и были они таковы: «Osanna in excelsis»,[59] других же словно бы не слыхал я. И вот мне показалось, что сердце, в котором было столько любви, молвило мне: «Это правда, что бездыханной лежит наша Донна!» И тогда будто бы пошел я, чтобы увидеть тело, в котором пребывала эта благороднейшая и блаженная душа. И столь сильно было ложное мое видение, что оно показало мне Донну мертвой: мне привиделось, будто донны прикрыли ее, то есть ее голову, белой тканью; и мне показалось, будто ее лицо носило такую печать смирения, что словно бы говорило: «Вот вижу я источник мира». В этом бреду меня объяло такое смирение от созерцания ее,[60] что я призывал Смерть и говорил: «Сладчайшая Смерть, приди ко мне[61] и не будь ко мне жестока, ибо ты должна была исполниться благородства: ведь в таком месте пребывала ты! Ныне приди ко мне, столь жаждущему тебя, – ведь ты видишь это, ибо я уже ношу твои цвета». И когда я увидел, что исполнены все печальные обряды, которые обычно совершаются над телом усопших, то показалось мне, будто я вернулся в свое жилище и стал словно бы смотреть на небо; и так силен был мой бред, что, плача, я принялся говорить настоящим голосом: «О прекраснейшая душа, как блажен тот, кто видит тебя!» И когда я произносил эти слова в горестном порыве рыданий и взывал к Смерти, дабы пришла она ко мне, некая донна, юная и благородная, которая сидела возле моего ложа, думая, что мои рыдания и мои слова проистекали только от страданий моей болезни, принялась в великом страхе плакать. И тогда другие донны, что были в комнате, увидев ее слезы, заметили, что и я рыдал; и вот, удалив ее от меня, – ту, что была связана со мной теснейшим родством, – они обратились ко мне, чтобы меня разбудить, думая, что я брежу, и сказали мне: «Не надо спать больше…» и «Не печалься же!» И когда они так сказали мне, сила бреда утихла в то самое мгновенье, когда я хотел сказать: «О Беатриче, да будешь благословенна ты!» И я сказал уже: «О Беатриче…» – когда, очнувшись, открыл глаза и увидел, что бредил. И, несмотря на то что я назвал это имя, мой голос прервался в порыве рыданий, и эти донны не могли меня понять, как показалось мне. И хотя я очень устыдился, все же по некоему приказанию Любви я повернулся к ним. И когда они увидели меня, то стали говорить: «Он кажется мертвым», – и говорили между собой: «Попытаемся утешить его», – и вот они сказали мне много слов, дабы утешить меня, а потом спросили, что меня испугало. Тогда я, будучи несколько утешен и поняв лживость бреда, ответил им: «Я вам расскажу, что со мной было». И вот, от начала и до конца, я поведал им о том, что мне привиделось, умолчав об имени Благороднейшей. Впоследствии же, исцелившись от этой болезни, я решил сказать слова о том, что случилось со мной, ибо мне казалось, что слушать об этом весьма приятно, и поэтому я сочинил канцону «Младая донна…», сложенную так, как то показывает написанное далее подразделение: Младая донна, в блеске состраданья,[62] В сиянии всех доблестей земных, Сидела там, где Смерть я звал всечасно; И, глядя в очи, полные терзанья, И внемля звукам буйных слов моих, Сама, в смятенье, зарыдала страстно. Другие донны, поспешив участно На плач ее в покой, где я лежал, Узрев, как я страдал, – Ее услав, ко мне склонились строго. Одна рекла: «Пободрствуй же немного», А та: «Не плачь напрасно». Когда ж мой бред рассеиваться стал, Мадонну я по имени назвал. Мой голос был исполнен так страданья, Так преломлен неистовостью слез, Что я один мог распознать то слово; Но, устыдясь невольного деянья, Бесчестия, что я Любви нанес, Я, помертвев, упал на ложе снова. Раскаяние грызло так сурово, Что, устрашившись вида моего: «Спешим спасти его!» – Друг другу донны тихо говорили И, наклонясь, твердили: «Как бледен ты! Что видел ты такого?» И вот чрез силу взял я слово сам И молвил: «Донны, я откроюсь вам! Я размышлял над жизнью моей бренной И познавал, как непрочна она, Когда Любовь на сердце потаенно Заплакала, шепнув душе смятенной, Унынием и страхом сражена: «Наступит день, когда умрет мадонна!» И отшатнулся я изнеможенно И в дурноте глаза свои смежил, И кровь ушла из жил, И чувства понеслись в коловращенье, И вот воображенье, Презрев рассудком, в дреме многосонной, Явило мне безумных донн черты, Взывающих: «Умрешь, умрешь и ты!..»
И я узнал еще о дивном многом В том буйном сне, который влек меня: Я пребывал в стране неизъясненной, Я видел донн, бегущих по дорогам, Простоволосых, плача и стеня, И мечущих какойто огнь нетленный. Потом я увидал, как постепенно Свет солнца мерк, а звезд – сиял сильней; Шел плач из их очей, И на лету пернатых смерть сражала, И вся земля дрожала, И муж предстал мне, бледный и согбенный, И рек: «Что медлишь? Весть ли не дошла? Так знай же: днесь мадонна умерла!» Подняв глаза, омытые слезами, Я увидал, как улетает в высь Рой ангелов, белея словно манна; И облачко пред ними шло как знамя, И голоса вокруг него неслись, Поющие торжественно: «Осанна!» Любовь рекла: «Приблизься невозбранно, – То наша Донна в упокойном сне». И бред позволил мне Узреть мадонны лик преображенный; И видел я, как донны Его фатой покрыли белотканой; И подлинно был кроток вид ея, Как бы вещавший: «Мир вкусила я!» И я обрел смирение в страданье, Когда узрел те кроткие черты, – И рек: «О смерть! Как сладостна ты стала! Я вижу лик твой в благостном сиянье, Зане, пребыв с моею Донной, ты Не лютость в ней, но милость почерпала. И вот душа теперь тебя взалкала; Да сопричтусь к слугам твоим и я, – Приди ж, зову тебя!» Так с горестным обрядом я расстался. Когда ж один остался, То молвил, глядя, как вся высь сияла: – Душа благая, счастлив, кто с тобой! – Тут вы, спасибо, бред прервали мой». В этой канцоне две части: в первой я говорю, обращаясь к некоему лицу, о том, как я был избавлен от безумного видения некими доннами и как я обещал им поведать о нем; во второй – говорю, как я поведал им. Вторая начинается так: «Я размышлял над жизнью моей бренной…». Первая часть делится на две: в первой – говорю о том, что некие донны, и особенно одна из них, говорили и делали по причине моего бреда, до того как я вернулся к действительности; во второй – говорю о том, что эти донны сказали мне, после того как я перестал бредить; начинается же эта часть так: «Мой голос был…». Потом, говоря: «Я размышлял…» – я повествую, как рассказал им о моем видении: об этом есть тоже две части; в первой – излагаю это видение по порядку, во второй, сказав о том, когда они окликнули меня, благодарю их в заключение; эта часть начинается так: «Тут вы, спасибо…». XXIV После этого безумного бреда случилось однажды, что, сидя в задумчивости в одном месте, я почувствовал, как поднимается в сердце трепет, словно бы я находился в присутствии Донны. И вот, говорю я, мне явилась в воображении Любовь,[63] и показалось мне, будто я вижу ее идущей оттуда, где была моя Донна, и будто бы она радостно сказала мне в сердце моем: «Помысли благословить тот день, когда я овладела тобою, ибо тебе пристало сделать это». И в самом деле, мне показалось, будто сердце исполнено такой радости, что словно бы и не мое было то сердце: в столь необычайном состоянии оно пребывало. И немного спустя после этих слов, которые сказало мне сердце языком Любви, я увидел, что приближается ко мне одна благородная донна, которая была знаменита красотой и некогда была донной первого моего друга.[64] Имя же этой донны было Джованна, но, по причине ее красоты, как думают иные, ей дано было имя Примаверы;[65] так и звали ее.[66] А следом за ней, увидел я, шла дивная Беатриче. Так прошли близ меня эти донны, одна за другой, и казалось, Любовь заговорила со мной в сердце моем и молвила: «Та, первая, именуется Примаверой только по причине этого сегодняшнего появления; ибо я побудила давшего имя назвать ее Примавера, ибо первая пройдет она в тот день, когда Беатриче явится служителю своему после его видения. А если хочешь также разобрать и первое имя, то оно говорит то же, что имя «Примавера», ибо названа она Джованна по тому Иоанну, который предшествовал истинному свету,[67] говоря: «Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini».[68] И еще показалось мне, будто она сказала мне затем такие слова: «А если бы кто захотел рассудить тонко, тот назвал бы Беатриче Любовью, ибо велико ее сходство со мной». И вот, поразмыслив потом об этом, я решил написать стихи первому моему другу, умолчав о некоторых словах, о которых, казалось мне, надо было умолчать, ибо я думал, что еще дивилось его сердце красоте благородной Примаверы. И вот я сочинил сонет, который и начинается «Я услыхал…». Я услыхал, как в сердце пробудился Любовный дух, который там дремал; Потом вдали Любовь я увидал Столь радостной, что в ней я усомнился. Она ж сказала: «Время, чтоб склонился Ты предо мной…» – и в речи смех звучал. Но только лишь владычице я внял, Ее дорогой взор мой устремился, И монну Ванну с монной Биче я Узрел идущими[69] в сии края – За чудом дивным чудо без примера; И, как хранится в памяти моей, Любовь сказала: «Эта – Примавера, А та – Любовь, так сходственны мы с ней». В этом сонете много частей: первая из них говорит о том, как я почувствовал, что в сердце поднимается привычный трепет, и как мне показалось, будто Любовь явилась мне издалека радостной; вторая говорит о том, как показалось мне, будто Любовь говорит со мной в сердце моем, и какой явилась она мне; третья говорит, что, после того как она побыла со мной некоторое время, я увидал и услыхал коекакие вещи. Вторая часть начинается так: «Она ж сказала…»; третья так: «Но только лишь…». Третья часть делится на две: в первой я говорю о том, что я увидел; во второй говорю о том, что я услышал. Вторая начинается так: «Любовь сказала…». XXV Может случиться, что усомнится человек, достойный того, чтобы ему разъяснили любое сомнение, и усомнится он, может быть, в том, почему я говорю о Любви так, словно она существует сама по себе[70] не только как мыслимая субстанция, но как субстанция телесная; а это, согласно истинному учению,[71] ложно, ибо Любовь не есть субстанция, но состояние субстанции. А то, что я говорю о ней как о теле – даже как о человеке, – явствует из трех вещей, которые я говорю о ней. Я говорю, что видел, как она идет ко мне; а так как слово «идет» говорит о пространственном движении, в пространстве же движется, согласно Философу, лишь тело,[72] то и явствует, что я полагаю, будто Любовь есть тело. Я говорю еще о ней, что она смеялась, и еще, что она говорила; эти же вещи, кажется, свойственны лишь человеку, особливо же смех; отсюда явствует, что я полагаю, будто она человек. Дабы разъяснить эту вещь, поскольку это будет теперь уместно, – надлежит прежде всего вспомнить, что в старину не было воспевателей любви на языке народном;[73] но воспевали любовь некоторые поэты на языке латинском: я говорю, что у нас, как, может быть, и у других народов случалось и еще случается, произошло то же самое, что было в Греции:[74] не народные, но ученые поэты занимались этими вещами. И прошло лишь немного лет с тех пор, как впервые появились эти народные поэты,[75] ибо говорить рифмами на языке народном – это почти то же, что сочинять стихи полатыни. И вот доказательство тому, что прошло немного времени: если бы мы захотели поискать на языке «ос» или на языке «si», [76] то мы не нашли бы вещей, сочиненных за сто пятьдесят лет до нашего времени. Причина же тому, что некоторые невежды снискали славу умеющих сочинять,[77] – в том, что они были как бы первыми, которые сочиняли на языке «si». Первый же, кто начал сочинять как народный поэт, был побужден тем, что хотел сделать свои слова понятными донне, которой было бы затруднительно слушать стихи латинские. И это – в осуждение тем, которые слагают рифмы о чемлибо другом, кроме любви,[78] ибо такой способ сочинять был изобретен с самого начала ради того, чтобы говорить о любви. И вот, так как поэтам дозволена большая вольность речи, нежели сочинителям прозаическим, а слагатели рифм суть не иное что, как поэты, говорящие на языке народном, то достойно и разумно, чтобы им была дозволена большая вольность речи, чем другим сочинителям на народном языке: поэтому ежели какаялибо риторическая фигура или украшение дозволены поэтам, то они дозволены и слагателям рифм.[79] Таким образом, если мы видим, что поэты обращались к неодушевленным вещам так, словно в них есть чувство и разум, и наделяли их речью и делали это не только с вещами существующими, но и вещами несуществующими, и рассказывали о вещах, которых нет, будто те говорят, и рассказывали, что многие состояния владеют речью, как если бы они были субстанциями и людьми, то пристало и слагателям рифм делать то же, но не безо всякого разума, а настолько разумно, чтобы можно было потом разъяснить все в прозе. Что поэты говорили именно так, как было сказано, явствует из Вергилия, который говорит, что Юнона, то есть богиня, враждебная троянцам, говорит Эолу, повелителю ветров, в первой книге «Энеиды» так:[80] «Aeole namque tibi…»[81] и что этот повелитель отвечает ей так: «Tuus, о regina, quid optes explorare labor; mihi jussa capessere fas est».[82] У этого же самого поэта вещь неодушевленная говорит вещам одушевленным в третьей книге «Энеиды» так:[83] «Dardanidae duri».[84] У Лукана[85] вещь одушевленная говорит вещам неодушевленным так: «Multum, Roma, tamen debes civilibus armis».[86] У Горация человек обращается к собственному своему знанию, словно к другому лицу; и это не только слова Горация, ибо он говорит их вслед за добрым Гомером, в этом месте своего «Поэтического искусства»: «Die mihi, Musa, virum…».[87] У Овидия любовь говорит, как если бы она была человеческой личностью, в начале книги, которая носит заглавие «Книга о средствах от любви», так: «Bella mihi, video, bella parantur, ait».[88] Это и может послужить разъяснением тому, кто сомневался в какойлибо части этой моей книжки. А для того чтобы не набрался отсюда дерзости человек невежественный, я говорю, что ни поэты не сочиняют, ни те, что слагают рифмы, не должны сочинять, не зная разумного оправдания тому, что они сочиняют; ибо было бы великим стыдом тому, который сочинил бы вещь в одеянии риторических фигур и украшений, а затем, будучи спрошен, не мог бы снять со своих слов это одеяние так, чтобы в них был настоящий смысл. Мы же – первый мой друг и я – хорошо знаем тех, которые слагают стихи так бессмысленно. XXVI Благороднейшая Донна, о которой здесь повествовалось, снискала себе такое благоволение у народа, что, когда она проходила по улице, люди сбегались, чтобы увидеть ее, вследствие чего дивная радость охватывала меня. И когда она находилась вблизи от когонибудь, то столь великое почтение нисходило в его сердце, что он не дерзал ни поднять глаза, ни ответить на ее поклон; и многие, который испытали это, смогли бы служить мне в том свидетелями перед всяким, кто не поверит этому. Так, венчанная и облаченная смирением, проходила она, ничуть не кичась тем, что она видела и слышала. Говорили многие, после того как она проходила: «Это не женщина, но один из прекраснейших ангелов неба». Другие же говорили: «Она – чудо, да будет благословен Господь, имеющий власть творить столь дивно». И казалась она, говорю я, столь благородной и исполненной столь великой прелести, что те, которые видели ее, ощущали в себе сладость такую чистую и нежную, что и выразить ее не могли; и не было никого, кто, видя ее, не вздохнул бы тотчас же поневоле. Такие и еще более дивные вещи происходили под ее благостным действием. И вот, поразмыслив об этом и желая вновь взяться за стиль, дабы хвалить ее, я решил сказать слова, в которых изъяснил бы ее дивное и превосходное действие, чтобы не только те, которые могли воочию видеть ее, но и другие узнали бы о ней то, что можно изъяснить словами. И вот я сочинил сонет, который начинается «Столь благородна…». Столь благородна, столь скромна бывает Мадонна, отвечая на поклон, Что близ нее язык молчит, смущен, И око к ней подняться не дерзает. Она идет, восторгам не внимает, И стан ее смиреньем облачен, И кажется: от неба низведен Сей призрак к нам, да чудо здесь являет. Такой восторг очам она несет, Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость, Которой непознавший не поймет, И словно бы от уст ее идет Любовный дух, лиющий в сердце сладость, Твердя душе: «Вздохни…» – и воздохнет. Этот сонет столь легко понять благодаря рассказанному прежде, что нет нужды в какихлибо подразделениях, и поэтому, оставляя его, я говорю, что моя Донна снискала столь великое благоволение, что не только она была чтима и прославлена, но ради нее чтимы и прославлены были многие. И вот я, видя это и желая показать тем, кто этого не видал, решил сказать еще слова, в которых было бы это выражено; и тогда я сочинил этот второй сонет, который рассказывает, как ее благость действовала в других, – как то явствует из его разделения: Взирает на достойнейшее тот, Кто на мадонну среди донн взирает, – В веселии за нею он течет И Господа за милость восхваляет. Такую благость взгляд ее лиет, Что зависти никто из донн не знает, Но всех она в согласии ведет И верой и любовью оделяет. Все перед ней смиренно клонит лик, Но не себе она тем славу множит, А каждому награду воздает; И свет ее деяний столь велик, Что лишь кому на мысль она придет, Тот о любви не воздохнуть не может. В этом сонете три части; в первой я говорю о том, среди каких людей Донна казалась наиболее дивной; во второй – говорю о том, как благотворно было ее общество; в третьей – говорю о тех вещах, которые благостно производила она в других. Вторая часть начинается так: «В веселии за нею…»; третья так: «Такую благость…». Эта последняя часть делится на три: в первой я говорю о том, как под ее действием менялись сами донны; во второй – говорю о том, как под ее действием менялись донны на взгляд других; в третьей – говорю о том, что благостно производила она не только в доннах, но и во всех людях, и не только своим присутствием, но и памятью о себе. Вторая начинается так: «Все перед ней…»; третья так: «И свет ее деяний…». XXVII После этого стал я однажды размышлять о том, что сказал я о моей Донне – то есть об этих двух написанных выше сонетах; и когда я увидел в моем размышлении, что не я сказал о том, как под ее действием меняюсь я сам, то подумал я, что сказано мною слишком мало. И поэтому я решил сказать слова, в которых поведал бы, как я приуготовлен к действиям ее, а равно о том, как действует на меня ее благость. И, не надеясь, что сумею изложить это с краткостью сонета, я начал тогда канцону, которая начинается «Так длительно…». Так длительно Любовь меня томила И подчиняла властности своей, Что как в былом я трепетал пред ней, Так ныне сердце сладость полонила. Пусть гордый дух во мне она сломила, Пусть стали чувства робче и слабей, – Все ж на душе так сладостно моей, Что даже бледность мне чело покрыла. Поистине любовь так правит мной, Что вздохи повсеместно бьют тревогу И кличут на помогу Мою мадонну, щит и панцирь мой: Она спешит, и с ней – мое спасенье, И подлино чудесно то явленье. «Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium».[89] Я был еще за сочинением этой канцоны[90] и окончил написанную выше строфу ее, когда Господь справедливости призвал Благороднейшую славить его под хоругвь благословенной царицы, девы Марии, чье имя было в величайшем почитании в словах блаженной Беатриче. И хотя, быть может, было бы желательно ныне рассказать нечто об ее уходе от нас, однако нет у меня намерения рассказывать здесь об этом по трем причинам: первая – та, что это не относится к настоящему сочинению, – стоит лишь заглянуть во вступление, которое предшествует этой книжице;[91] вторая – та, что, даже если оно и относилось бы к настоящему сочинению, все же язык мой не сумел бы рассказать об этом, как надлежало бы; третья – та, что, даже если бы и было налицо то и другое, не пристало мне рассказывать об этом, потому что, рассказывая, пришлось бы мне восхвалять самого себя,[92] каковая вещь до крайности позорна для того, кто делает ее; и поэтому я оставляю рассказ об этом другому повествователю. Однако так как число девять много раз занимало место среди предшествующих слов (откуда явствует, что то было не без разумного повода) и в уходе ее число это занимает как будто тоже большое место, то следует сказать здесь нечто такое, что, думается, имеет отношение к предмету. Поэтому я и скажу сначала, какое занимало оно место в ее уходе, а затем присоединю к этому некоторые размышления о том, почему это число было ей столь дружественно. XXIX Я говорю, что по счислению Аравийскому[93] благодатная ее душа отошла в первом часу девятого дня месяца; по счислению же Сирийскому она отошла в девятом месяце года; ибо первый месяц там – Тисрин первый, который у нас соответствует Октябрю; а по нашему счислению она отошла в том году нашего летосчисления, то есть лет господних, когда совершеннейшее число[94] девять раз повторилось в том столетии, в котором явилась она в этот мир; была же она из христиан тринадцатого столетия.[95] Причиной же тому, что это число было ей столь дружественно, могло бы быть вот что: ввиду того что, согласно с Птолемеем и согласно с христианской истиной, девять существует небес, которые пребывают в движении, и, согласно со всеобщим астрологическим мнением, упомянутые небеса действуют сюда, на землю, по обыкновению своему, в единстве, – то и это число было дружественно ей для того, чтобы показать, что при ее рождении все девять движущихся небес были в совершеннейшем единстве. Такова одна причина этого. Но если рассуждать более тонко и согласно с непреложной истиной, то это число было ею самой;[96] я заключаю по сходству и понимаю это так: число три есть корень девяти, ибо без любого другого числа, само собой, оно становится девятью, как то воочию видим мы; трижды три суть девять. Итак, если три само собой дает девять, а творец чудес сам по себе есть троица, то есть: отец, сын и дух святый, которые суть три и один – то и Донну число девять сопровождало для того, дабы показать, что она была девятью, то есть чудом, которого корень находится лишь в дивной троице. Быть может, для более тонкого человека тут будут видны и еще более тонкие причины, но это есть то, что вижу я и что мне нравится больше. XXX После того как благороднейшая Госпожа отошла от века сего, остался названный город весь словно бы вдовым[97] и лишенным всего достоинства; и вот я, все еще плача в осиротевшем этом городе, написал старейшинам страны[98] нечто о состоянии его, взяв началом слова пророка Иеремии, которые гласят: «Quomodo sedet sola civitas…»[99] Говорю же я это к тому, чтобы иные не удивлялись, отчего привел я его выше как вступление к новому предмету, идущему затем. Если же ктонибудь захотел бы упрекнуть меня в том, что я не пишу здесь слов, которые следуют за теми, уже приведенными, то оправданием мне служит то, что с самого начала моим замыслом было писать не иначе, как языком народным; вот и вышло бы, что если бы я написал слова, следующие за теми, что приведены, – все латинские, – то было бы это чуждо замыслу моему; подобного же мнения, знаю, держится и мой первый друг, которому я пишу это, то есть что писать это я должен не иначе, как на языке народном. XXI После того как глаза мои несколько выплакались и были так истомлены, что не могли уже дать исход грусти моей, я задумал попытаться дать ей исход в нескольких горестных словах; и поэтому я решил сочинить канцону, в которой, печалясь, размышлял бы о Той, изза кого стала губительницей моей души столь великая скорбь; и я начал тогда канцону, которая начинается: «Устали очи, сердцу сострадая…». А для того чтобы эта канцона, когда дочтут ее до конца, казалась одинокой, словно вдова,[100] я дам ей подразделенья прежде, нежели напишу ее самое;[101] и так же отныне буду делать и впредь. Я говорю, что в этой злосчастной канцоне три части: первая есть вступление; во второй я размышляю о Ней; в третьей – я нежно обращаюсь к канцоне. Вторая часть начинается так: «Сияет Беатриче…»; третья так: «Канцона моя горькая…». Первая часть делится на три: в первой – говорю о том, что влечет меня говорить; во второй – говорю, кому хочу я говорить; в третьей – говорю, о ком хочу говорить. Вторая начинается так: «Но помню я…»; третья так: «Хочу в слезах…». Потом, когда говорю: «Сияет Беатриче…» – я размышляю о ней; и этому отдаю я две части: сначала говорю о причине, по которой была она взята; затем говорю, как другие оплакивают ее уход; начинается же эта часть так: «Прекрасную покинув плоть…». Эта часть делится на три: в первой – говорю, кто не оплакивает ее; во второй – говорю, кто оплакивает ее; в третьей – говорю о моем состоянии. Вторая начинается так: «Но скорбь, и воздыханья…»; третья так: «Меня страшат…». Потом, когда говорю: «Канцона моя горькая…» – обращаюсь к этой канцоне, указывая ей, к каким доннам надлежит ей идти и пребывать с ними. Устали очи, сердцу сострадая, Влачить тоски непоборимый гнет, Напечатлевший знак на них сурово. И, тяготу свою избыть желая, Что к смерти с каждым днем меня влечет, Хочу я вздохам предоставить слово. Но помню я, что надлежит мне снова, Как в дни, когда мадонна между нас Жила, о донны, – к вам мой стих направить, Его лишь вам представить, Чтоб низкий слух не восприял мой глас; Хочу в слезах пред вами Ту восславить Что на небе укрыла облик свой, Любовь в тоске оставивши со мной. Сияет Беатриче в небе горнем, Где ангелы вкушают сладость дней; Она для них покинула вас, донны, – Унесена не холодом тлетворным, Не зноем, умерщвляющим людей, Но благостью своей непревзойденной. Ее души, смиреньем напоенной, Вознесся свет к высоким небесам, И возымел желание Зиждитель Призвать в свою обитель Ту, на кого возрадовался сам. И помысел исполнил Повелитель, Зане он видел, что юдоль сия Не постигает благости ея. Прекрасную покинув плоть, благая Ее душа, всемилости полна,[102] В пресветлом месте славно пребывает. Кто слез не льет, о Дивной размышляя, Тот сердцем камень, в том душа грязна. Тот благостыни никогда не знает, Тот помыслов высоких не вмещает, Пред тем сокрыт навеки лик ея. Вот отчего не ведал он рыданья! Но скорбь, и воздыханья, И смерти зов, и тягость бытия Изведал тот, навек влача терзанья, Кому душа вещала в некий час, Кем Та была и как ушла от нас.
Меня страшат жестокие томленья, Когда приводит мысль на тяжкий ум Ту, по которой сердце так страдает: И я прошу у смерти избавленья И чувствую такую сладость дум, Что тотчас цвет лицо мое меняет. Но лишь мечта желанное являет, Ко мне беда со всех сторон спешит, И я в смятенье мужество теряю И облик вновь меняю, И с глаз людских меня уводит стыд; Но только лишь в сиротстве возрыдаю Пред Беатриче: «Вот тебя уж нет!» Как слышу с выси ласковый ответ. Унынье слез, неистовство смятенья Так неотступно следуют за мной, Что каждый взор судьбу мою жалеет. Какой мне стала жизнь с того мгновенья, Как отошла мадонна в мир иной, Людской язык поведать не сумеет. Вот отчего, о донны, речь немеет, Когда ищу сказать, как стражду я. Так горько жизнь меня отяготила, Так радости лишила, Что встречные сторонятся меня, Приметив бледность, что мне лик покрыла. Одна мадонна с неба клонит взор, И верю: благ мне будет приговор. Канцона моя горькая, иди же В слезах туда, где донны и девицы, Кому твои сестрицы Веселие привыкли приносить. Ты ж, чей удел – дитятей скорби быть, Тщись, сирая, в чужой семье ужиться. XXXII После того как сочинена была эта канцона, пришел ко мне некто, кто, соответственно степеням дружбы, приходился мне другом тотчас же следом за первым; и он был столь связан родством с Преславной, что никого ближе у нее не было. И после того как он побеседовал со мной, попросил он меня сочинить ему чтолибо для одной донны, которая умерла; при этом он притворствовал в своих словах, чтобы казалось, будто он говорит о другой, которая действительно недавно умерла; я же, заметив, что говорит он только о Благословенной, обещал сделать то, чего хотела от меня его просьба. И вот, пораздумав об этом после, решил я сочинить сонет, в котором я выразил бы некоторую печаль, и отдать его этому моему другу, дабы показалось, что именно для него я его сочинил. И тогда я сочинил сонет, который начинается: «Придите внять стенаниям моим…». В нем две части: в первой – зову верных Любви, дабы они вняли мне; во второй – повествую о моем злосчастном положении. Вторая начинается так: «Когда б они в груди моей…». Придите внять стенаниям моим, Сердца благие, на призыв печали; Когда б они в груди моей молчали, Я б был убит терзанием своим. Не исцелить целением иным Моих очей, что скорби сожигали; Они от слез отчаянья устали, Питаемого сердцем молодым. Он к вам дойдет не раз, мой зов, летящий К мадонне, опочившей в вечной доле, Достойной добродетели ее; Затем, что одинок я в сей юдоли, Отвергнутой душой моей скорбящей, Утратившей спасение свое. XXXIII Сочинив этот сонет, пораздумал я о том друге, кому намеревался отдать его, словно бы он был сочинен именно для него, и увидел, что бедной кажется мне услуга и ничтожной для человека, столь близкого Преславной. И потому, прежде чем отдать ему этот написанный выше сонет, я сочинил две строфы канцоны: одну действительно для него, другую же – для себя, хотя написанными для одного лица покажутся и первая и вторая тому, кто не смотрит тонко. Но кто в тонкости рассмотрит их, тот ясно увидит, что говорят разные лица, а именно: один не именует ее своей Донной, другой же именует так, как это с очевидностью явствует. Эту канцону и этот вышенаписанный сонет я отдал ему, говоря, что сочинил их для него одного. Канцона начинается так: «Не раз, увы, когда я вспоминаю…», и в ней две части: в одной, то есть в первой строфе, печалуется дорогой мне друг, близкий ей; во второй – печалуюсь я сам, то есть в другой строфе, которая начинается: «В единый глас сливает все стенанья…». И таким образом, явствует, что в этой канцоне печалуются два лица, одно из которых печалуется как брат, другое – как служитель. Не раз, увы, когда я вспоминаю, Что ввек уж не видать Мне больше той, по ком душа томится, – Такую скорбь я в сердце ощущаю, Так горько ум стеснится, Что говорю: «Душа! еще ли ждать? – Страдания, что ты должна приять В юдоли сей, тебе неблагосклонной, Столь тягостны, что в страхе я живу…» И вот я смерть зову; В ней, сладостной, мой отдых заслуженный, И я молю: «Приди», – и страсть кипит, И зависть к мертвым в сердце говорит. В единый глас сливает все стенанья Моей печали звук, И кличет Смерть и ищет неуклонно. К ней, к ней одной летят мои желанья Со дня, когда мадонна Была взята из этой жизни вдруг. Затем, что, кинувши земной наш круг, Ее черты столь дивно озарились Великою, нездешней красотой, Разлившей в небе свой Любовный свет, – что ангелы склонились Все перед ней, и ум высокий их Дивится благородству сил таких. XXXIV В тот день, когда свершился год с той поры, как Донна стала гражданкой вечной жизни, сидел я в одном месте, где, вспоминая о ней, рисовал я ангела на неких листах; и в то время как я рисовал его, поднял я глаза и увидел возле себя людей из числа тех, кому надлежит воздавать почтение. Они же смотрели на то, что я делаю, и, как потом было сказано мне, они стояли уже некоторое время, я же не замечал этого. Когда я увидал их, я встал и, поклонившись, сказал: «Некто был только что со мной, поэтому я и задумался». И вот после их ухода вернулся я к своей работе, то есть к рисованию обликов ангела, и, когда я совершил это, пришла мне мысль сказать слова, как бы в память годовщины, и написать тем, которые пришли ко мне. И тогда сочинил я следующий сонет, который начинается: «Она предстала памяти моей…» – и в котором два начала;[103] поэтому я подразделяю его согласно с одним и согласно с другим.[104] Я говорю, что согласно с первым – в этом сонете три части: в первой – говорю, что Донна пребывала уже в моей памяти; во второй – говорю о том, что сделала в силу этого со мной Любовь; в третьей – говорю о действиях Любви. Вторая начинается так: «Заслышав зов…»; третья так: «Они неслись…». Эта часть делится на две: в первой я говорю, что все мои вздохи исходили, беседуя друг с другом; в другой – говорю, как иные из них говорили некие слова, отличные от других; вторая часть начинается так: «И у кого всех горестней…». Таким же образом делится он согласно со вторым началом, с той лишь разницей, что в одной первой части я говорю о том, когда Донна пришла мне так на память, в другой же об этом не говорю. ПЕРВОЕ НАЧАЛО Она предстала памяти моей, Благая Донна, призванная ныне Господней волей к вечной благостыне На небеса, где Приснодева с ней.
ВТОРОЕ НАЧАЛО Она предстала памяти моей, Та Донна, по которой плачет ныне Любовь, – в тот миг, когда во благостыне Смотрели вы на лик, что дал я ей. Заслышав зов среди дремы своей, Любовь в сердечной ожила пустыне, Промолвив вздохам: «Поспешим к святыне!» И, возрыдав, те понеслись быстрей. Они неслись и жаловались вслух Словами, исторгавшими не раз Ток слез из глаз, что скорбию объяты. И у кого всех горестней был глас, Те шли, твердя: «О благородный дух, Сегодня год, как в небо поднялся ты!» Спустя некоторое время, когда находился я в некоем месте, где вспоминал о былом времени, я пребывал в большой задумчивости и в столь горестных размышлениях, что они издалека придавали мне вид ужасной горести. И вот, заметив, сколь я угнетен, поднял я глаза, чтобы поглядеть, не видят ли меня другие; и тогда увидел одну благородную донну,[105] молодую и весьма прекрасную, которая из окна глядела на меня, как это заметно было, столь жалостливо, что казалось, вся скорбь была собрана в ней. И вот вследствие того, что несчастные, когда видят в других сострадание к себе, еще более влекутся к слезам, словно испытывая к самим себе жалость, – я почувствовал тогда, что в моих глазах возникает желание плакать, и поэтому, боясь обнаружить злосчастную жизнь мою, я удалился от взоров этой благородной; и потом я сказал себе: «Не может быть, чтобы с этой сострадательной донной не было благороднейшей Любви». И поэтому решил я сочинить сонет, в котором обратился бы к ней и заключил все то, что рассказано в этом повествовании. И так как это повествование сделало его вполне ясным, то я и не подразделяю его. Сонет начинается «Видали очи…». Видали очи, сколько состраданья Явили вы в лице своем в тот миг, Когда увидели мой горький лик И скорбию рожденные деянья. И понял я, что ваши воздыханья О том, что мрак судьбу мою постиг; И трепет, вставший в сердце, был велик, Да не предам всей тяжести терзанья. И я сокрылся прочь от вас, почуя, Как на сердце рыданий всходит новь, Исторгнутая взоров ваших силой; И молвил я душе моей унылой: Конечно, с этой донной – та Любовь, Изза которой в горе жизнь влачу я. Случилось потом, что, где бы ни видела меня эта донна, ее лицо становилось страждущим и цвет его бледным, словно от любви; почему много раз она напоминала мне мою благороднейшую Донну, которая всегда казалась столь же бледной. И действительно, много раз, будучи не в силах ни плакать, ни излить своей печали, я шел, чтобы увидеть сострадательную эту донну, которая, казалось, своим видом удаляла слезы от моих глаз. И поэтому появилось у меня желание сказать еще слова, обращаясь к ней, и я сочинил следующий сонет, который начинается: «Ни цвет любви…»; он ясен и без разделов, вследствие предшествующего изложения. Ни цвет любви, ни знаки состраданья На лике донны никогда с такой Не отражались дивной полнотой, Завидя очи, полные рыданья, – Как на лице у вас, когда признанья Не удержал язык печальный мой, И мнилось мне со страхом и тоской, Что сердце разорвется от терзанья. Измученных, полупотухших глаз Уже не властен я отвлечь от вас, Затем что скорбь излить они желают; Вы дали им частицу сил своих, И жажда слез испепеляет их, Но плакать перед вами не дерзают. XXXVII Вид этой донны довел меня до того, что мои глаза стали слишком радоваться при виде ее; я не раз мучился этим в сердце моем и почитал себя весьма подлым. И много раз хулил я суету моих глаз и говорил им в мысли своей: «Некогда понуждали вы плакать тех, кто видел горестное состояние ваше; ныне же кажется, что вы хотите забыть об этом ради той донны, что смотрит на вас; но смотрит она на вас лишь потому, что печалит ее преславная Донна, о которой обычно плакали вы; но что можете, то делайте, ибо весьма часто стану я напоминать вам о ней, проклятые глаза: ведь никогда – разве лишь по смерти – не должны были бы прекратиться слезы ваши!» И когда я так говорил про себя глазам моим, объяли меня вздохи, весьма долгие и боязливые. И для того чтобы эта битва, которая была у меня с самим собой, стала ведома не одному лишь несчастному, который испытал ее, я решил сочинить сонет и заключить в нем утаенное это состояние. И вот сочинил я следующий сонет, который начинается: «Потоки слез…»; в нем две части: в первой – обращаюсь к моим глазам так, как если бы обращалось сердце мое во мне самом; во второй – устраняю некоторое сомнение, обнаруживая, кто так говорит; начинается же эта часть так: «Так говорит…». Легко можно было бы получить и больше разделов, но они излишни, ибо сонет ясен благодаря предшествующему изложению. И вот этот сонет, который и начинается: «Потоки слез, что горько проливали Вы, мои очи, столько долгих дней, К рыданиям влекли других людей, Что вашими печалями страдали. Но мнится мне: давно бы вы изгнали Ту память прочь, будь я неверен ей И не яви вам твердости своей, Восславя Ту, по ком вы горевали. В раздумии над вашей суетой Печалюсь я, – и страшно мне за вас Пред ликом Донны, что сюда взирает. Ведь никогда – в посмертный разве час – Вы не должны забыть Усопшей той!» – Так говорит им сердце – и вздыхает. XXXVIII Вид этой донны привел меня в столь новое состояние, что много раз думал я о ней как об особе, которая слишком нравилась мне; и думал я о ней так: «Вот – донна, благородная, прекрасная, юная и мудрая, и явлена она, быть может, волею Любви для того, чтобы моя жизнь обрела спокойствие». И много раз думал я о ней еще более любовно, настолько, что сердце соглашалось с этим в глубине своей, то есть в своих размышлениях. Но едва было уже соглашался я, как раскаивался, словно бы побуждаемый разумом, и говорил самому себе: «Увы! что это за мысль, которая столь низким образом хочет утешить меня и не дает мне думать об ином?» Потом поднималась другая мысль и говорила мне: «Теперь, когда ты пребываешь в таком смятении, почему не хочешь ты выйти из подобной горести? Ты видишь, что это – дуновение Любви, которое несет к нам любовные желания и исходит от столь благородной части, то есть из глаз донны, показавшей нам себя столь сострадательной». И вот, не раз борясь так с самим собой, я захотел сказать также и об этом несколько слов; а так как в битве мыслей победили те, что говорили за нее, то и казалось мне, что надлежит обратиться к ней; и я сочинил следующий сонет, который начинается: «Мысль милая…»; говорю же я: «милая…» – поскольку рассуждаю о достойной донне, ибо в остальном мысль была весьма низкой. В этом сонете различаю я две части самого себя согласно с тем, что мои мысли разделились. Одну часть я именую сердцем – это вожделение; другую именую душой – это разум; и я говорю то, что одна говорит другой. А что пристало именовать вожделение сердцем, а разум душой, это вполне очевидно тем, для кого, как я желал бы, это должно быть ясно. Правда, в предшествующем сонете я держу сторону сердца против стороны глаз, и это кажется противоречием тому, что я говорю ныне; вот почему я говорю, что и там понимаю сердце как вожделение, ибо у меня было больше желания вспоминать еще о благороднейшей Донне моей, нежели видеть эту, и хотя некоторое вожделение к тому было уже, но оно казалось легким: отсюда явствует, что одно сказанное не противоречит другому. В этом сонете три части; в первой – начинаю говорить этой донне, что все мои желания стремятся к ней; во второй – говорю, что душа, то есть разум, говорит сердцу, то есть вожделению; в третьей – говорю, что оно отвечает. Вторая часть начинается так: «Душа же сердцу…»; третья так: «Оно ж в ответ…». Мысль милая, что мне твердит о вас, Как частый гость, досуг мой разделяет И о любви так сладко рассуждает, Что сердце ей покорствует подчас. Душа же сердцу: «Чей здесь слышен глас? Кто это нас в печали утешает? И вправду ли он силой обладает, Чтоб отогнать чужую мысль от нас?» Оно ж в ответ: «О смутная душа, То новый дух Любви сюда стремится, Мне повеленья принести спеша; Он естеством и властию такой Обязан взорам жалостливой той, Что нашими мученьями томится». XXXIX Против этого врага разума поднялось во мне однажды, часов около девяти, могущественное видение: мне казалось, будто увидел я преславную Беатриче в тех алых одеждах, в которых впервые явилась она моим глазам; показалась она мне юной, почти того же возраста, в котором впервые я увидел ее.[106] И тогда стал я размышлять о ней; и когда я вспоминал по порядку о былом времени, сердце мое стало горестно раскаиваться в том желании, которому так низко дало оно владеть собой на несколько дней, вопреки постоянству разума; и когда было изгнано это столь дурное желание – все мои помыслы обратились к своей благороднейшей Беатриче. И говорю, что отныне я стал так размышлять о ней всем устыженным моим сердцем, что вздохи много раз свидетельствовали об этом, ибо все они, исходя, как бы выговаривали то, о чем думало сердце, то есть имя Благороднейшей, и как ушла она от нас. И много раз случалось, что такую боль заключала в себе иная мысль, что я забывал и ее и то, где находился. Вследствие этого возобновления вздохов возобновились и утихнувшие слезы, так что глаза мои казались двумя существами, у которых лишь одно желание – плакать, и часто бывало, что изза долгого и продолжительного плача вокруг них появлялась пурпурная краска, которая обычно бывает после какогонибудь страдания, которому подвергаешься. Таким образом, явствует, что за суетность свою они получили заслуженное и потому отныне и впредь не могли уже глядеть ни на кого, кто взглядом своим мог бы увлечь их к подобному же намерению. И вот, желая, чтобы столь дурное влечение и суетная попытка казались уничтоженными и чтобы никаких сомнений не могли бы возбудить стихи, которые я сочинил ранее, – я решил написать сонет, в котором заключил бы смысл изложенного. И тогда сочинил я: «Увы! пред силой долгого вздыханья»; говорю же я «увы», потому что устыдился я того, что глаза мои оказались столь суетными. Сонета этого я не делю, ибо его содержание достаточно ясно. Увы! пред силой долгого вздыханья, Что думой в сердце вскормлено моем, Смирились очи, мысля об одном: Сокрыться от людского созерцанья. И кажется: они – лишь два желанья Печалиться и плакать о былом; Их слезы так обильны, что кругом Их увила Любовь венцом страданья. Уныньем дум и вздохами своими Они так тяжко сердце полонят, Что в нем Любовь тоскою сражена, Затем что, безутешные, хранят Они мадонны сладостное имя И весть о том, как отошла она. XL После этой смуты случилось, – в пору, когда много народу шло увидеть тот благословенный образ, что оставлен нам Иисусом Христом,[107] как подобие прекраснейшего лика его, который преславно созерцает моя Донна, – что несколько странников проходило по улице, которая пролегает посредине города, где родилась, жила и умерла благороднейшая Донна;[108] и шли те странники, как мне показалось, в большой задумчивости. Я же, размышляя о них, сказал самому себе: «Эти странники, представляется мне, идут из дальних мест, и я не думаю, чтобы они слышали хотя бы молву о Донне; они не знают о ней ничего; равно и мысли их – о других вещах, нежели эти, и думают они, может быть, о далеких друзьях своих, о которых мы ничего не знаем». Потом я сказал самому себе: «Я знаю, что если бы они были из близких мест, то они казались бы хоть скольконибудь смущенными, проходя среди скорбящего города». Потом я сказал самому себе: «Если бы я мог их ненадолго задержать, я заставил бы плакать и их, прежде чем ушли они из этого города, ибо я сказал бы им слова, которые заставили бы плакать всякого, кто слышит их». И вот когда они скрылись из виду, я решил написать сонет, в котором высказал бы то, что говорил самому себе; а для того чтобы это имело еще более жалостный вид, я решил говорить так, словно бы я обращался к ним; и вот я сочинил сонет, который начинается: «О странники, вы, что, склонясь, идете…»; говорю же я «странники» согласно с широким значением слова, ибо «странники» могут пониматься в двояком смысле, – в широком и в узком: в широком – поскольку странником является тот, кто пребывает вдали от отчизны своей; в узком же смысле странником почитается лишь тот, кто идет к дому св. Иакова[109] или же возвращается оттуда. И поэтому надлежит знать, что трояким образом именуются, собственно, люди, которые идут на служение Всевышнему: они именуются «пальмиерами», поскольку возвращаются изза моря, откуда часто они привозят пальмы; они именуются «перегринами», поскольку идут к дому в Галисии, ибо гробница св. Иакова находится дальше от его отчизны, нежели гробница какоголибо другого апостола; они именуются «римлянами», поскольку идут в Рим, куда и шли те, которых я именую «странниками». Сонета этого я не делю, ибо его содержание достаточно ясно. О странники, вы, что, склонясь, идете, Скорбя о тех, кого здесь, видно, нет; С чужбины ли ведет сюда ваш след, Как обликом своим вы знать даете? Поведайте, почто вы слез не льете, Застигнувши сей город среди бед? Иль горя вы не видите примет И тяжести утрат не сознаете? Когда б до вас дошли мои слова, Вы нашей скорби поняли б величье И здесь в слезах окончили свой век: Она почила, наша Беатриче! – И повесть той кончины такова, Что зарыдает каждый человек! XLI Потом обратились ко мне две благородные донны с просьбой, чтобы я им прислал эти мои стихи, и я, подумав об их благородстве, решил послать им свои слова и сочинить еще новую вещь, дабы отослать ее им вместе с другими и тем самым более почтительно исполнить их просьбу. И сочинил я тогда сонет, который повествует о моем состоянии, и послал его им вместе с предыдущим сонетом и еще с другим, что начинается: «Придите внять…». Сонет, который я сочинил тогда, начинается «Над сферою…» и заключает в себе пять частей. В первой я говорю, куда идет моя мысль, называя ее именем некоего ее действия; во второй – говорю, отчего идет она в высь, то есть кто ведет ее туда. В третьей – говорю о том, что она видит, то есть какую Донну, чтимую в выси;[110] и тогда я называю ее «духом странническим», ибо он идет в высь духовно и, подобно страннику, находящемуся вдали от отчизны своей, остается там. В четвертой – говорю, какой видит он ее, то есть в таком достоинстве, что я не могу постичь его; означает же это, что моя мысль поднимается в ее достоинстве на такую ступень, что мой рассудок не может этого постичь, принимая во внимание, что рассудок наш стоит в таком же отношении к тем благословенным душам, как немощный глаз к солнцу: это именно и говорит Философ во второй книге Метафизики.[111] В пятой – говорю, что хоть я и не могу разуметь того предмета, к коему влечет меня мысль, то есть дивного ее достоинства, все же разумею я то, что все это есть размышление о моей Донне, ибо я часто слышу имя ее в моей мысли; в конце же пятой части говорю: «…о донны…», дабы пояснить, что именно к доннам я обращаюсь. Вторая часть начинается так: «То новая Разумность…»; третья так: «И вот пред ним…»; четвертая так: «Что видел он…»; пятая так: «Но явно мне…». Можно было бы еще более тонко провести подразделение и более тонко выявить смысл, но возможно обойтись и этим разделением, а потому я и не стану подразделять сонет далее. Над сферою, что шире всех кружится,[112] Посланник сердца, вздох проходит мой: То новая Разумность, что с тоской Дала ему Любовь, в нем ввысь стремится. И вот пред ним желанная граница: Он видит донну в почести большой, В таком блистанье, в благости такой, Что страннический дух не надивится. Что видел он, то изъяснил; но я Не мог постигнуть смысла в хитрой притче,[113] Как ни внимала ей душа моя. Но явно мне: он о Благой вещал, Зане я слышал имя: «Беатриче» – И тайну слов, о донны, постигал. XLII После этого сонета было мне дивное видение,[114] в котором лицезрел я вещи, понудившие меня принять решение не говорить о Благословенной до тех пор, пока я не смогу повествовать о ней более достойно. И, чтобы достигнуть этого, я тружусь, сколько могу, как о том истинно знает она. Так что если угодно будет Тому, кем жива вся тварь, чтобы моя жизнь продлилась несколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не говорилось ни об одной. А потом, да будет угодно тому, кто есть Господь милосердный, чтобы душа моя могла вознестись и увидеть славу своей Донны, то есть той благословенной Беатриче, которая достославно созерцает лик Того, qui est per omnia saecula benedictus.[115] БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ Перевод и примечания М. Лозинского. АД
1 Земную жизнь пройдя до половины,[116] Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины. 4 Каков он был, о, как произнесу, Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас в памяти несу! 7 Так горек он, что смерть едва ль не слаще. Но, благо в нем обретши навсегда, Скажу про все, что видел в этой чаще. 10 Не помню сам, как я вошел туда, Настолько сон меня опутал ложью, Когда я сбился с верного следа. 13 Но к холмному приблизившись подножью,[117] Которым замыкался этот дол, Мне сжавший сердце ужасом и дрожью, 16 Я увидал, едва глаза возвел, Что свет планеты,[118] всюду путеводной, Уже на плечи горные сошел. 19 Тогда вздохнула более свободной И долгий страх превозмогла душа, Измученная ночью безысходной. 22 И словно тот, кто, тяжело дыша, На берег выйдя из пучины пенной, Глядит назад, где волны бьют, страша, 25 Так и мой дух, бегущий и смятенный, Вспять обернулся, озирая путь, Всех уводящий к смерти предреченной. 28 Когда я телу дал передохнуть, Я вверх пошел, и мне была опора В стопе, давившей на земную грудь. 31 И вот, внизу крутого косогора, Проворная и вьющаяся рысь, Вся в ярких пятнах пестрого узора. 34 Она, кружа, мне преграждала высь, И я не раз на крутизне опасной Возвратным следом помышлял спастись. 37 Был ранний час, и солнце в тверди ясной Сопровождали те же звезды вновь,[119] Что в первый раз, когда их сонм прекрасный 40 Божественная двинула Любовь. Доверясь часу и поре счастливой, Уже не так сжималась в сердце кровь 43 При виде зверя с шерстью прихотливой; Но, ужасом опять его стесня, Навстречу вышел лев с подъятой гривой. 46 Он наступал как будто на меня, От голода рыча освирепело И самый воздух страхом цепеня. 49 И с ним волчица, чье худое тело, Казалось, все алчбы в себе несет; Немало душ изза нее скорбело. 52 Меня сковал такой тяжелый гнет, Перед ее стремящим ужас взглядом, Что я утратил чаянье высот. 55 И как скупец, копивший клад за кладом, Когда приблизится пора утрат, Скорбит и плачет по былым отрадам, 58 Так был и я смятением объят, За шагом шаг волчицей неуемной Туда теснимый, где лучи молчат.[120] 61 Пока к долине я свергался темной, Какойто муж[121] явился предо мной, От долгого безмолвья словно томный. 64 Его узрев среди пустыни той: «Спаси, – воззвал я голосом унылым, – Будь призрак ты, будь человек живой!» 67 Он отвечал: «Не человек; я был им; Я от ломбардцев низвожу мой род, И Мантуя[122] была их краем милым. 70 Рожден sub Julio,[123] хоть в поздний год, Я в Риме жил под Августовой сенью,[124] Когда еще кумиры чтил народ. 73 Я был поэт и вверил песнопенью, Как сын Анхиза[125] отплыл на закат От гордой Трои, преданной сожженью. 76 Но что же к муке ты спешишь назад? Что не восходишь к выси озаренной, Началу и причине всех отрад?» 79 «Так ты Вергилий, ты родник бездонный, Откуда песни миру потекли? – Ответил я, склоняя лик смущенный. – 82 О честь и светоч всех певцов земли, Уважь любовь и труд неутомимый, Что в свиток твой мне вникнуть помогли! 85 Ты мой учитель, мой пример любимый; Лишь ты один в наследье мне вручил Прекрасный слог, везде превозносимый. 88 Смотри, как этот зверь меня стеснил! О вещий муж, приди мне на подмогу, Я трепещу до сокровенных жил!» 91 «Ты должен выбрать новую дорогу,[126] – Он отвечал мне, увидав мой страх, – И к дикому не возвращаться логу; 94 Волчица, от которой ты в слезах, Всех восходящих гонит, утесняя, И убивает на своих путях; 97 Она такая лютая и злая, Что ненасытно будет голодна, Вслед за едой еще сильней алкая. 100 Со всяческою тварью случена, Она премногих соблазнит, но славный Нагрянет Пес[127], и кончится она. 103 Не прах земной и не металл двусплавный,[128] А честь, любовь и мудрость он вкусит, Меж войлоком и войлоком[129] державный. 106 Италии он будет верный щит, Той, для которой умерла Камилла, И Эвриал, и Турн, и Нис убит.[130] 109 Свой бег волчица где бы ни стремила, Ее, нагнав, он заточит в Аду, Откуда зависть хищницу взманила. 112 И я тебе скажу в свою чреду: Иди за мной, и в вечные селенья Из этих мест тебя я приведу, 115 И ты услышишь вопли исступленья И древних духов, бедствующих там, О новой смерти тщетные моленья;[131] 118 Потом увидишь тех, кто чужд скорбям Среди огня, в надежде приобщиться Когданибудь к блаженным племенам. 121 Но если выше ты захочешь взвиться, Тебя душа достойнейшая[132] ждет: С ней ты пойдешь, а мы должны проститься; 124 Царь горних высей, возбраняя вход В свой город мне, врагу его устава, Тех не впускает, кто со мной идет. 127 Он всюду царь, но там его держава; Там град его, и там его престол; Блажен, кому открыта эта слава!» 130 «О мой поэт, – ему я речь повел, – Молю Творцом, чьей правды ты не ведал: Чтоб я от зла и гибели ушел, 133 Яви мне путь, о коем ты поведал, Дай врат Петровых[133] мне увидеть свет И тех, кто душу вечной муке предал». 136 Он двинулся, и я ему вослед. ПЕСНЬ ВТОРАЯ 1 День уходил, и неба воздух темный Земные твари уводил ко сну От их трудов; лишь я один, бездомный, 4 Приготовлялся выдержать войну И с тягостным путем, и с состраданьем, Которую неложно вспомяну. 7 О Музы, к вам я обращусь с воззваньем! О благородный разум, гений свой Запечатлей моим повествованьем! 10 Я начал так: «Поэт, вожатый мой, Достаточно ли мощный я свершитель, Чтобы меня на подвиг звать такой? 13 Ты говоришь, что Сильвиев родитель,[134] Еще плотских не отрешась оков, Сходил живым в бессмертную обитель. 16 Но если поборатель всех грехов К нему был благ, то, рассудив о славе Его судеб, и кто он, и каков, 19 Его почесть достойным всякий вправе: Он, избран в небе света и добра, Стал предком Риму и его державе, 22 А тот и та, когда пришла пора, Святой престол воздвигли в мире этом Преемнику верховного Петра. 25 Он на своем пути, тобой воспетом,[135] Был вдохновлен свершить победный труд, И папский посох ныне правит светом. 28 Там, вслед за ним. Избранный был Сосуд,[136] Дабы другие укрепились в вере, Которою к спасению идут. 31 А я? На чьем я оснуюсь примере? Я не апостол Павел, не Эней, Я не достоин ни в малейшей мере. 34 И если я сойду в страну теней, Боюсь, безумен буду я, не боле. Ты мудр; ты видишь это все ясней». 37 И словно тот, кто, чужд недавней воле И, передумав в тайной глубине, Бросает то, что замышлял дотоле, 40 Таков был я на темной крутизне, И мысль, меня прельстившую сначала, Я, поразмыслив, истребил во мне. 43 «Когда правдиво речь твоя звучала, Ты дал смутиться духу своему, – Возвышенная тень мне отвечала. – 46 Нельзя, чтоб страх повелевал уму; Иначе мы отходим от свершений, Как зверь, когда мерещится ему. 49 Чтоб разрешить тебя от опасений, Скажу тебе, как я узнал о том, Что ты моих достоин сожалений. 52 Из сонма тех, кто меж добром и злом,[137] Я женщиной был призван столь прекрасной, Что обязался ей служить во всем. 55 Был взор ее звезде подобен ясной; Ее рассказ струился не спеша, Как ангельские речи, сладкогласный: 58 О, мантуанца чистая душа, Чья слава целый мир объемлет кругом И не исчезнет, вечно в нем дыша, 61 Мой друг, который счастью не был другом, В пустыне горной верный путь обресть Отчаялся и оттеснен испугом. 64 Такую в небе слышала я весть; Боюсь, не поздно ль я помочь готова, И бедствия он мог не перенесть. 67 Иди к нему и, красотою слова И всем, чем только можно, пособя, Спаси его, и я утешусь снова. 70 Я Беатриче[138], та, кто шлет тебя; Меня сюда из милого мне края[139] Свела любовь; я говорю любя. 73 Тебя не раз, хваля и величая, Пред господом мой голос назовет. Я начал так, умолкшей отвечая: 76 «Единственная ты, кем смертный род Возвышенней, чем всякое творенье, Вмещаемое в малый небосвод,[140] 79 Тебе служить – такое утешенье, Что я, свершив, заслуги не приму; Мне нужно лишь узнать твое веленье. 82 Но как без страха сходишь ты во тьму Земного недра, алча вновь подняться К высокому простору твоему?» 85 «Когда ты хочешь в точности дознаться, Тебе скажу я, – был ее ответ, – Зачем сюда не страшно мне спускаться. 88 Бояться должно лишь того, в чем вред Для ближнего таится сокровенный; Иного, что страшило бы, и нет. 91 Меня такою создал царь вселенной, Что вашей мукой я не смущена И в это пламя нисхожу нетленной. 94 Есть в небе благодатная жена;[141] Скорбя о том, кто страждет так сурово, Судью[142] склонила к милости она. 97 Потом к Лючии[143] обратила слово И молвила: – Твой верный – в путах зла, Пошли ему пособника благого. – 100 Лючия, враг жестоких, подошла Ко мне, сидевшей с древнею Рахилью, Сказать: – Господня чистая хвала, 103 О Беатриче, помоги усилью Того, который из любви к тебе Возвысился над повседневной былью. 106 Или не внемлешь ты его мольбе? Не видишь, как поток, грознее моря, Уносит изнемогшего в борьбе? – 109 Никто поспешней не бежал от горя И не стремился к радости быстрей, Чем я, такому слову сердцем вторя, 112 Сошла сюда с блаженных ступеней, Твоей вверяясь речи достохвальной, Дарящей честь тебе и внявшим ей». 115 Так молвила, и взор ее печальный, Вверх обратясь, сквозь слезы мне светил И торопил меня к дороге дальней. 118 Покорный ей, к тебе я поспешил; От зверя спас тебя, когда к вершине Короткий путь тебе он преградил. 121 Так что ж? Зачем, зачем ты медлишь ныне? Зачем постыдной робостью смущен? Зачем не светел смелою гордыней, – 124 Когда у трех благословенных жен Ты в небесах обрел слова защиты И дивный путь тебе предвозвещен?» 127 Как дольный цвет, сомкнутый и побитый Ночным морозом, – чуть блеснет заря, Возносится на стебле, весь раскрытый, 130 Так я воспрянул, мужеством горя; Решимостью был в сердце страх раздавлен. И я ответил, смело говоря: 133 «О, милостива та, кем я избавлен! И ты сколь благ, не пожелавший ждать, Ее правдивой повестью наставлен! 136 Я так был рад словам твоим внимать И так стремлюсь продолжить путь начатый, Что прежней воли полон я опять. 139 Иди, одним желаньем мы объяты: Ты мой учитель, вождь и господин!» Так молвил я; и двинулся вожатый, 142 И я за ним среди глухих стремнин. ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ 1 Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ, Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН, Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ. 4 БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН: Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН. 7 ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ, И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ. ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ.[144] 10 Я, прочитав над входом, в вышине, Такие знаки сумрачного цвета, Сказал: «Учитель, смысл их страшен мне». 13 Он, прозорливый, отвечал на это: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать совета. 16 Я обещал, что мы придем туда, Где ты увидишь, как томятся тени, Свет разума утратив навсегда». 19 Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, И обернув ко мне спокойный лик, Он ввел меня в таинственные сени. 22 Там вздохи, плач и исступленный крик Во тьме беззвездной были так велики, Что поначалу я в слезах поник. 25 Обрывки всех наречий, ропот дикий, Слова, в которых боль, и гнев, и страх, Плесканье рук, и жалобы, и всклики 28 Сливались в гул, без времени, в веках, Кружащийся во мгле неозаренной, Как бурным вихрем возмущенный прах. 31 И я, с главою, ужасом стесненной: «Чей это крик? – едва спросить посмел. – Какой толпы, страданьем побежденной?» 34 И вождь в ответ: «То горестный удел Тех жалких душ, что прожили, не зная Ни славы, ни позора смертных дел. 37 И с ними ангелов дурная стая,[145] Что, не восстав, была и не верна Всевышнему, средину соблюдая. 40 Их свергло небо, не терпя пятна; И пропасть Ада их не принимает, Иначе возгордилась бы вина».[146] 43 И я: «Учитель, что их так терзает И понуждает к жалобам таким?» А он: «Ответ недолгий подобает. 46 И смертный час для них недостижим, И эта жизнь настолько нестерпима, Что все другое было б легче им. 49 Их память на земле невоскресима; От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов: взгляни – и мимо!» 52 И я, взглянув, увидел стяг вдали, Бежавший кругом, словно злая сила Гнала его в крутящейся пыли; 55 А вслед за ним столь длинная спешила Чреда людей, что, верилось с трудом, Ужели смерть столь многих истребила. 58 Признав иных, я вслед за тем в одном Узнал того, кто от великой доли Отрекся в малодушии своем.[147] 61 И понял я, что здесь вопят от боли Ничтожные, которых не возьмут Ни бог, ни супостаты божьей воли. 64 Вовек не живший, этот жалкий люд Бежал нагим, кусаемый слепнями И осами, роившимися тут. 67 Кровь, между слез, с их лиц текла И мерзостные скопища червей Ее глотали тут же под ногами. 70 Взглянув подальше, я толпу людей Увидел у широкого потока. «Учитель, – я сказал, – тебе ясней, 73 Кто эти там и власть какого рока Их словно гонит и теснит к волнам, Как может показаться издалека». 76 И он ответил: «Ты увидишь сам, Когда мы шаг приблизим к Ахерону[148] И подойдем к печальным берегам». 79 Смущенный взор склонив к земному лону, Боясь докучным быть, я шел вперед, Безмолвствуя, к береговому склону.
82 И вот в ладье навстречу нам плывет Старик[149], поросший древней сединою, Крича: «О, горе вам, проклятый род! 85 Забудьте небо, встретившись со мною! В моей ладье готовьтесь переплыть К извечной тьме, и холоду, и зною. 88 А ты уйди, тебе нельзя тут быть, Живой душе, средь мертвых!» И добавил, Чтобы меня от прочих отстранить: 91 «Ты не туда свои шаги направил: Челнок полегче должен ты найти,[150] Чтобы тебя он к пристани доставил». 94 А вождь ему: «Харон, гнев укроти. Того хотят – там, где исполнить властны То, что хотят. И речи прекрати». 97 Недвижен стал шерстистый лик ужасный У лодочника сумрачной реки, Но вкруг очей змеился пламень красный. 100 Нагие души, слабы и легки, Вняв приговор, не знающий изъятья, Стуча зубами, бледны от тоски, 103 Выкрикивали господу проклятья, Хулили род людской, и день, и час, И край, и семя своего зачатья. 106 Потом, рыдая, двинулись зараз К реке, чьи волны, в муках безутешных, Увидят все, в ком божий страх угас. 109 А бес Харон сзывает стаю грешных, Вращая взор, как уголья в золе, И гонит их и бьет веслом неспешных. 112 Как листья сыплются в осенней мгле, За строем строй, и ясень оголенный Свои одежды видит на земле, – 115 Так сев Адама, на беду рожденный, Кидался вниз, один, – за ним другой, Подобно птице, в сети приманенной. 118 И вот плывут над темной глубиной; Но не успели кончить переправы, Как новый сонм собрался над рекой. 121 «Мой сын, – сказал учитель величавый, Все те, кто умер, бога прогневив, Спешат сюда, все страны и державы; 124 И минуть реку всякий тороплив, Так утесненный правосудьем бога, Что самый страх преображен в призыв. 127 Для добрых душ другая есть дорога; И ты поймешь, что разумел Харон, Когда с тобою говорил так строго». 130 Чуть он умолк, простор со всех сторон Сотрясся так, что, в страхе вспоминая, Я и поныне потом орошен. 133 Дохнула ветром глубина земная, Пустыня скорби вспыхнула кругом, Багровым блеском чувства ослепляя; 136 И я упал, как тот, кто схвачен сном. ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Ворвался в глубь моей дремоты сонной Тяжелый гул, и я очнулся вдруг,[151] Как человек, насильно пробужденный. 4 Я отдохнувший взгляд обвел вокруг, Встав на ноги и пристально взирая, Чтоб осмотреться в этом царстве мук. 7 Мы были возле пропасти, у края, И страшный срыв гудел у наших ног, Бесчисленные крики извергая. 10 Он был так темен, смутен и глубок, Что я над ним склонялся попустому И ничего в нем различить не мог. 13 «Теперь мы к миру спустимся слепому, – Так начал, смертно побледнев, поэт. – Мне первому идти, тебе – второму». 16 И я сказал, заметив этот цвет: «Как я пойду, когда вождем и другом Владеет страх, и мне опоры нет?» 19 «Печаль о тех, кто скован ближним кругом, – Он отвечал, – мне на лицо легла, И состраданье ты почел испугом. 22 Пора идти, дорога не мала». Так он сошел, и я за ним спустился, Вниз, в первый круг, идущий вкруг жерла.[152] 25 Сквозь тьму не плач до слуха доносился, А только вздох взлетал со всех сторон И в вековечном воздухе струился. 28 Он был безбольной скорбью порожден, Которою казалися объяты Толпы младенцев, и мужей, и жен. 31 «Что ж ты не спросишь, – молвил мой вожатый, Какие духи здесь нашли приют? Знай, прежде чем продолжить путь начатый, 34 Что эти не грешили; не спасут Одни заслуги, если нет крещенья, Которым к вере истинной идут; 37 Кто жил до христианского ученья, Тот бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущенья, 40 Не за иное, мы осуждены, И здесь, по приговору высшей воли, Мы жаждем и надежды лишены». 43 Стеснилась грудь моя от тяжкой боли При вести, сколь достойные мужи Вкушают в Лимбе горечь этой доли. 46 «Учитель мой, мой господин, скажи, – Спросил я, алча веры несомненной, Которая превыше всякой лжи, – 49 Взошел ли кто отсюда в свет блаженный, Своей иль чьейто правдой искуплен?» Поняв значенье речи сокровенной: 52 «Я был здесь внове,[153] – мне ответил он, – Когда, при мне, сюда сошел Властитель, Хоруговью победы осенен. 55 Им изведен был первый прародитель;[154] И Авель, чистый сын его, и Ной, И Моисей, уставщик и служитель; 58 И царь Давид, и Авраам седой; Израиль, и отец его,[155] и дети; Рахиль, великой взятая ценой;[156] 61 И много тех, кто ныне в горнем свете. Других спасенных не было до них, И первыми блаженны стали эти». 64 Он говорил, но шаг наш не затих, И мы все время шли великой чащей, Я разумею – чащей душ людских. 67 И в области, невдале отстоящей От места сна,[157] предстал моим глазам Огонь, под полушарьем тьмы горящий. 70 Хоть этот свет и не был близок к нам, Я видеть мог, что некий многочестный И высший сонм уединился там. 73 «Искусств и знаний образец всеместный, Скажи, кто эти, не в пример другим Почтенные среди толпы окрестной?» 76 И он ответил: «Именем своим Они гремят земле, и слава эта Угодна небу, благостному к ним». 79 «Почтите высочайшего поэта! – Раздался в это время чейто зов. – Вот тень его подходит к месту света». 82 И я увидел после этих слов, Что четверо к нам держат шаг державный; Их облик был ни весел, ни суров. 85 «Взгляни, – промолвил мой учитель славный. – С мечом в руке, величьем осиян, Трем остальным предшествует, как главный, 88 Гомер, превысший из певцов всех стран; Второй – Гораций, бичевавший нравы; Овидий – третий, и за ним – Лукан.[158] 91 Нас связывает титул величавый, Здесь прозвучавший, чуть я подошел; Почтив его, они, конечно, правы». 94 Так я узрел славнейшую из школ, Чьи песнопенья вознеслись над светом И реют над другими, как орел. 97 Мой вождь их встретил, и ко мне с приветом Семья певцов приблизилась сама; Учитель улыбнулся мне при этом. 100 И эта честь умножилась весьма, Когда я приобщен был к их собору И стал шестым средь столького ума. 103 Мы шли к лучам, предавшись разговору, Который лишний здесь и в этот миг, Насколько там он к месту был и в пору. 106 Высокий замок предо мной возник, Семь раз обвитый стройными стенами; Кругом бежал приветливый родник. 109 Мы, как землей, прошли его волнами; Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела; Зеленый луг открылся перед нами. 112 Там были люди с важностью чела, С неторопливым и спокойным взглядом; Их речь звучна и медленна была. 115 Мы поднялись на холм, который рядом, В открытом месте, светел, величав, Господствовал над этим свежим садом. 118 На зеленеющей финифти трав Предстали взорам доблестные тени, И я ликую сердцем, их видав. 121 Я зрел Электру в сонме поколений, Меж коих были Гектор, и Эней, И хищноокий Цезарь, друг сражений. 124 Пентесилея и Камилла с ней Сидели возле, и с отцом – Лавина; Брут, первый консул, был в кругу теней; 127 Дочь Цезаря, супруга Коллатина, И Гракхов мать, и та, чей муж Катон; Поодаль я заметил Саладина. 130 Потом, взглянув на невысокий склон, Я увидал: учитель тех, кто знает, Семьей мудролюбивой окружен. 133 К нему Сократ всех ближе восседает И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит; Здесь тот, кто мир случайным полагает, 136 Философ знаменитый Демокрит; Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором, Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит; 139 Диоскорид, прославленный разбором Целебных качеств; Сенека, Орфей, Лин, Туллий; дальше представали взорам 142 Там – геометр Эвклид, там – Птолемей, Там – Гиппократ, Гален и Авиценна, Аверроис, толковник новых дней.[159] 145 Я всех назвать не в силах поименно; Мне нужно быстро молвить обо всем, И часто речь моя несовершенна. 148 Синклит шести распался, мы вдвоем; Из тихой, сени в воздух потрясенный Уже иным мы движемся путем, 151 И я – во тьме, ничем не озаренной. ПЕСНЬ ПЯТАЯ 1 Так я сошел, покинув круг начальный, Вниз во второй; он менее, чем тот, Но больших мук в нем слышен стон печальный. 4 Здесь ждет Минос[160], оскалив страшный рот; Допрос и суд свершает у порога И взмахами хвоста на муку шлет. 7 Едва душа, отпавшая от бога, Пред ним предстанет с повестью своей, Он, согрешенья различая строго, 10 Обитель Ада назначает ей, Хвост обвивая столько раз вкруг тела, На сколько ей спуститься ступеней. 13 Всегда толпа у грозного предела; Подходят души чередой на суд: Промолвила, вняла и вглубь слетела. 16 «О ты, пришедший в бедственный приют, – Вскричал Минос, меня окинув взглядом И прерывая свой жестокий труд, – 19 Зачем ты здесь, и кто с тобою рядом? Не обольщайся, что легко войти!» И вождь в ответ: «Тому, кто сходит Адом, 22 Не преграждай сужденного пути. Того хотят – там, где исполнить властны То, что хотят. И речи прекрати». 25 И вот я начал различать неясный И дальний стон; вот я пришел туда, Где плач в меня ударил многогласный. 28 Я там, где свет немотствует всегда И словно воет глубина морская, Когда двух вихрей злобствует вражда. 31 То адский ветер, отдыха не зная, Мчит сонмы душ среди окрестной мглы И мучит их, крутя и истязая.
34 Когда они стремятся вдоль скалы,[161] Взлетают крики, жалобы и пени, На господа ужасные хулы. 37 И я узнал, что это круг мучений Для тех, кого земная плоть звала, Кто предал разум власти вожделений. 40 И как скворцов уносят их крыла, В дни холода, густым и длинным строем, Так эта буря кружит духов зла 43 Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем; Там нет надежды на смягченье мук Или на миг, овеянный покоем. 46 Как журавлиный клин летит на юг С унылой песнью в высоте надгорной, Так предо мной, стеная, несся круг 49 Теней, гонимых вьюгой необорной, И я сказал: «Учитель, кто они, Которых так терзает воздух черный?» 52 Он отвечал: «Вот первая, взгляни: Ее державе многие языки В минувшие покорствовали дни. 55 Она вдалась в такой разврат великий, Что вольность всем была разрешена, Дабы народ не осуждал владыки. 58 То Нинова венчанная жена, Семирамида, древняя царица; Ее земля Султану отдана. 61 Вот нежной страсти горестная жрица,[162] Которой прах Сихея оскорблен; Вот Клеопатра, грешная блудница. 64 А там Елена, тягостных времен Виновница; Ахилл, гроза сражений, Который был любовью побежден; 67 Парис, Тристан». Бесчисленные тени Он назвал мне и указал рукой, Погубленные жаждой наслаждений. 70 Вняв имена прославленных молвой Воителей и жен из уст поэта, Я смутен стал, и дух затмился мой. 73 Я начал так: «Я бы хотел ответа От этих двух,[163] которых вместе вьет И так легко уносит буря эта».
76 И мне мой вождь: «Пусть ветер их пригнет Поближе к нам; и пусть любовью молит Их оклик твой; они прервут полет». 79 Увидев, что их ветер к нам неволит: «О души скорби! – я воззвал. – Сюда! И отзовитесь, если Тот позволит!»[164] 82 Как голуби на сладкий зов гнезда, Поддержанные волею несущей, Раскинув крылья, мчатся без труда, 85 Так и они, паря во мгле гнетущей, Покинули Дидоны скорбный рой На возглас мой, приветливо зовущий. 88 «О ласковый и благостный живой, Ты, посетивший в тьме неизреченной Нас, обагривших кровью мир земной; 91 Когда бы нам был другом царь вселенной, Мы бы молились, чтоб тебя он спас, Сочувственного к муке сокровенной. 94 И если к нам беседа есть у вас, Мы рады говорить и слушать сами, Пока безмолвен вихрь, как здесь сейчас. 97 Я родилась над теми берегами, Где волны, как усталого гонца, Встречают По с попутными реками.[165] 100 Любовь сжигает нежные сердца, И он пленился телом несравнимым, Погубленным так страшно в час конца. 103 Любовь, любить велящая любимым, Меня к нему так властно привлекла, Что этот плен ты видишь нерушимым. 106 Любовь вдвоем на гибель нас вела; В Каине[166] будет наших дней гаситель». Такая речь из уст у них текла. 109 Скорбящих теней сокрушенный зритель, Я голову в тоске склонил на грудь. «О чем ты думаешь?» – спросил учитель. 112 Я начал так: «О, знал ли ктонибудь, Какая нега и мечта какая Их привела на этот горький путь!» 115 Потом, к умолкшим слово обращая, Сказал: «Франческа, жалобе твоей Я со слезами внемлю, сострадая. 118 Но расскажи: меж вздохов нежных дней, Что было вам любовною наукой, Раскрывшей слуху тайный зов страстей?» 121 И мне она: «Тот страждет высшей мукой, Кто радостные помнит времена В несчастии; твой вождь тому порукой. 124 Но если знать до первого зерна Злосчастную любовь ты полон жажды, Слова и слезы расточу сполна. 127 В досужий час читали мы однажды О Ланчелоте сладостный рассказ;[167] Одни мы были, был беспечен каждый. 130 Над книгой взоры встретились не раз, И мы бледнели с тайным содроганьем; Но дальше повесть победила нас. 133 Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем Прильнул к улыбке дорогого рта, Тот, с кем навек я скована терзаньем, 136 Поцеловал, дрожа, мои уста. И книга стала нашим Галеотом![168] Никто из нас не дочитал листа». 139 Дух говорил, томимый страшным гнетом, Другой рыдал, и мука их сердец Мое чело покрыла смертным потом; 142 И я упал, как падает мертвец. ПЕСНЬ ШЕСТАЯ 1 Едва ко мне вернулся ясный разум, Который был не в силах устоять Пред горестным виденьем и рассказом, – 4 Уже средь новых пыток я опять, Средь новых жертв, куда ни обратиться, Куда ни посмотреть, куда ни стать. 7 Я в третьем круге, там, где, дождь струится, Проклятый, вечный, грузный, ледяной; Всегда такой же, он все так же длится. 10 Тяжелый град, и снег, и мокрый гной Пронизывают воздух непроглядный; Земля смердит под жидкой пеленой. 13 Трехзевый Цербер[169], хищный и громадный, Собачьим лаем лает на народ, Который вязнет в этой топи смрадной. 16 Его глаза багровы, вздут живот, Жир в черной бороде, когтисты руки; Он мучит души, кожу с мясом рвет. 19 А те под ливнем воют, словно суки; Прикрыть стараясь верхним нижний бок, Ворочаются в исступленье муки. 22 Завидя нас, разинул рты, как мог, Червь гнусный, Цербер, и спокойной части В нем не было от головы до ног. 25 Мой вождь нагнулся, простирая пясти, И, взяв земли два полных кулака, Метнул ее в прожорливые пасти. 28 Как пес, который с лаем ждал куска, Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой, И занят только тем, что жрет пока, – 31 Так смолк и демон Цербер грязнорылый, Чей лай настолько душам омерзел, Что глухота казалась бы им милой. 34 Меж призраков, которыми владел Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая По пустоте, имевшей облик тел. 37 Лежала плоско их гряда густая, И лишь один, чуть нас заметил он, Привстал и сел, глаза на нас вздымая. 40 «О ты, который в этот Ад сведен, – Сказал он, – ты меня, наверно, знаешь; Ты был уже, когда я выбыл вон». 43 И я: «Ты вид столь жалостный являешь, Что кажешься чужим в глазах моих И вряд ли мне кого напоминаешь. 46 Скажи мне, кто ты, жертва этих злых И скорбных мест и казни ежечасной, Не горше, но противней всех других». 49 И он: «Твой город,[170] зависти ужасной Столь полный, что уже трещит квашня, Был и моим когдато в жизни ясной. 52 Прозвали Чакко[171] граждане меня. За то, что я обжорству предавался, Я истлеваю, под дождем стеня. 55 И, бедная душа, я оказался Не одинок: их всех карают тут За тот же грех». Его рассказ прервался. 58 Я молвил: «Чакко, слезы грудь мне жмут Тоской о бедствии твоем загробном. Но я прошу: скажи, к чему придут 61 Враждующие в городе усобном; И кто в нем праведен; и чем раздор Зажжен в народе этом многозлобном?» 64 И он ответил: «После долгих ссор Прольется кровь и власть лесным доставит, А их врагам – изгнанье и позор. 67 Когда же солнце трижды лик свой явит, Они падут, а тем поможет встать Рука того, кто в наши дни лукавит. 70 Они придавят их и будут знать, Что вновь чело на долгий срок подъемлют, Судив сраженным плакать и роптать.[172] 73 Есть двое праведных, но им не внемлют.[173] Гордыня, зависть, алчность – вот в сердцах Три жгучих искры, что вовек не дремлют». 76 Он смолк на этих горестных словах. И я ему: «Из бездны злополучий Вручи мне дар и будь щедрей в речах. 79 Теггьяйо, Фарината, дух могучий, Все те, чей разум правдой был богат, Арриго, Моска или Рустикуччи, – 82 Где все они, я их увидеть рад; Мне сердце жжет узнать судьбу славнейших: Их нежит небо или травит Ад?» 85 И он: «Они средь душ еще чернейших: Их тянет книзу бремя грешных лет; Ты можешь встретить их в кругах дальнейших.[174] 88 Но я прошу: вернувшись в милый свет, Напомни людям, что я жил меж ними. Вот мой последний сказ и мой ответ». 91 Взглянув глазами, от тоски косыми, Он наклонился и, лицо тая, Повергся ниц меж прочими слепыми. 94 И мне сказал вожатый: «Здесь гния, Он до трубы архангела[175] не встанет. Когда придет враждебный судия, 97 К своей могиле скорбной каждый прянет И, в прежний образ снова воплотясь, Услышит то, что вечным громом грянет».[176] 100 Мы тихо шли сквозь смешанную грязь Теней и ливня, в разные сужденья О вековечной жизни углубясь. 103 Я так спросил: «Учитель, их мученья, По грозном приговоре, как – сильней Иль меньше будут, иль без измененья?» 106 И он: «Наукой сказано твоей, Что, чем природа совершенней в сущем, Тем слаще нега в нем, и боль больней. 109 Хотя проклятым людям, здесь живущим, К прямому совершенству не прийти, Их ждет полнее бытие в грядущем».[177] 112 Мы шли кругом по этому пути; Я всей беседы нашей не отмечу; И там, где к бездне начал спуск вести, 115 Нам Плутос[178], враг великий, встал навстречу. ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ 1 «Рарè Satán, рарè Satán aleppe!»[179] – Хриплоголосый Плутос закричал. Хотя бы он и вдвое был свирепей, – 4 Меня мудрец, все знавший, ободрял, – Не поддавайся страху: что́ могло бы Нам помешать спуститься с этих скал?» 7 И этой роже, вздувшейся от злобы, Он молвил так: «Молчи, проклятый волк! Сгинь в клокотаньи собственной утробы! 10 Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк; Так хочет тот, кто мщенье Михаила[180] Обрушил в небе на мятежный полк». 13 Как падают надутые ветрила, Свиваясь, если щегла рухнет вдруг, Так рухнул зверь, и в нем исчезла сила. 16 И мы, спускаясь побережьем мук, Объемлющим всю скверну мирозданья, Из третьего сошли в четвертый круг. 19 О правосудье божье! Кто страданья, Все те, что я увидел, перечтет? Почто такие за вину терзанья? 22 Как над Харибдой[181] вал бежит вперед И вспять отхлынет, прегражденный встречным, Так люди здесь водили хоровод. 25 Их множество казалось бесконечным; Два сонмища шагали, рать на рать, Толкая грудью грузы, с воплем вечным; 28 Потом они сшибались и опять С трудом брели назад, крича друг другу: «Чего копить?» или «Чего швырять?» – 31 И, двигаясь по сумрачному кругу, Шли к супротивной точке с двух сторон, Попрежнему ругаясь сквозь натугу; 34 И вновь назад, едва был завершен Их полукруг такой же дракой хмурой. И я промолвил, сердцем сокрушен: 37 «Мой вождь, что это за народ понурый? Ужель все это клирики, весь ряд От нас налево,[182] эти там, с тонзурой?» 40 И он: «Все те, кого здесь видит взгляд, Умом настолько в жизни были кривы, Что в меру не умели делать трат.[183] 43 Об этом лает голос их сварливый, Когда они стоят к лицу лицом, Наперекор друг другу нечестивы.[184] 46 Те – клирики, с пробритым гуменцом; Здесь встретишь папу, встретишь кардинала, Не превзойденных ни одним скупцом». 49 И я: «Учитель, я бы здесь немало Узнал из тех, кого не так давно Подобное нечестие пятнало». 52 И он: «Тебе узнать их не дано: На них такая грязь от жизни гадкой, Что разуму обличье их темно. 55 Им вечно так шагать, кончая схваткой; Они восстанут из своих могил, Те – сжав кулак, а эти – с плешью гладкой.[185] 58 Кто недостойно тратил и копил, Лишен блаженств и занят этой бучей; Ее и без меня ты оценил. 61 Ты видишь, сын, какой обман летучий Даяния Фортуны, род земной Исполнившие ненависти жгучей: 64 Все золото, что блещет под луной Иль было встарь, из этих теней, бедных Не успокоило бы ни одной». 67 И я: «Учитель таин заповедных! Что есть Фортуна, счастье всех племен Держащая в когтях своих победных?» 70 «О глупые созданья, – молвил он, – Какая тьма ваш разум обуяла! Так будь же наставленьем утолен. 73 Тот, чья премудрость правит изначала, Воздвигнув тверди, создал им вождей, Чтоб каждой части часть своя сияла, 76 Распространяя ровный свет лучей; Мирской же блеск он предал в полновластье Правительнице судеб, чтобы ей 79 Перемещать, в свой час, пустое счастье Из рода в род и из краев в края, В том смертной воле возбранив участье. 82 Народу над народом власть дая, Она свершает промысел свой строгий, И он невидим, как в траве змея. 85 С ней не поспорит разум ваш убогий: Она провидит, судит и царит, Как в прочих царствах остальные боги. 88 Без устали свой суд она творит: Нужда ее торопит ежечасно, И всем она недолгий миг дарит. 91 Еето и поносят громогласно, Хотя бы подобала ей хвала, И распинают, и клянут напрасно. 94 Но ей, блаженной, не слышна хула: Она, смеясь меж первенцев творенья,[186] Крутит свой шар,[187] блаженна и светла.[188] 97 Но спустимся в тягчайшие мученья: Склонились звезды,[189] те, что плыли ввысь, Когда мы шли; запретны промедленья». 100 Мы пересекли круг и добрались До струй ручья, которые просторной, Изрытой ими, впадиной неслись. 103 Окраска их была багровочерной; И мы, в соседстве этих мрачных вод, Сошли по диким тропам с кручи горной. 106 Угрюмый ключ стихает и растет В Стигийское болото,[190] ниспадая К подножью серокаменных высот. 109 И я увидел, долгий взгляд вперяя, Людей, погрязших в омуте реки; Была свирепа их толпа нагая. 112 Они дрались, не только в две руки, Но головой, и грудью, и ногами, Друг друга норовя изгрызть в клочки. 115 Учитель молвил: «Сын мой, перед нами Ты видишь тех, кого осилил гнев; Еще ты должен знать, что под волнами 118 Есть также люди;[191] вздохи их, взлетев, Пузырят воду на пространстве зримом, Как подтверждает око, посмотрев. 121 Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом, Который блещет, солнцу веселясь, Мы были скучны, полны вялым дымом; 124 И вот скучаем, втиснутые в грязь». Такую песнь у них курлычет горло, Напрасно слово вымолвить трудясь». 127 Так, огибая илистые жерла, Мы, гранью топи и сухой земли, Смотря на тех, чьи глотки тиной сперло, 130 К подножью башни наконец пришли. ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ 1 Скажу, продолжив, что до башни этой Мы не дошли изрядного куска, Когда наш взгляд, к ее зубцам воздетый, 4 Приметил два зажженных огонька[192] И гдето третий, глазу чуть заметный, Как бы ответивший издалека. 7 Взывая к морю мудрости всесветной, Я так спросил: «Что это за огни? Кто и зачем дает им знак ответный?» 10 «Когда ты видишь сквозь туман, взгляни, – Так молвил он. – Над илистым простором Ты различишь, кого зовут они». 13 Ни перед чьим не пролетала взором Стрела так быстро, в воздухе спеша, Как малый челн, который, в беге скором, 16 Стремился к нам, по заводи шурша, С одним гребцом, кричавшим громогласно: «Ага, попалась, грешная душа!» 19 «Нет, Флегий,[193] Флегий, ты кричишь напрасно, – Сказал мой вождь. – Твои мы лишь на миг, И в этот челн ступаем безопасно». 22 Как тот, кто слышит, что его постиг Большой обман, и злится, распаленный, Так вспыхнул Флегий, искажая лик. 25 Сошел в челнок учитель благосклонный, Я вслед за ним, и лишь тогда ладья Впервые показалась отягченной. 28 Чуть в лодке поместились вождь и я, Помчался древний струг, и так глубоко Не рассекалась ни под кем струя. 31 Посередине мертвого потока Мне встретился один;[194] весь в грязь одет, Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?» 34 И я: «Пришел, но мой исчезнет след. А сам ты кто, так гнусно безобразный?» «Я тот, кто плачет», – был его ответ. 37 И я: «Плачь, сетуй в топи невылазной, Проклятый дух, пей вечную волну! Ты мне – знаком, такой вот даже грязный». 40 Тогда он руки протянул к челну; Но вождь толкнул вцепившегося в злобе, Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!»
43 И мне вкруг шеи, с поцелуем, обе Обвив руки, сказал: «Суровый дух, Блаженна несшая тебя в утробе! 46 Он в мире был гордец и сердцем сух; Его деяний люди не прославят; И вот он здесь от злости слеп и глух. 49 Сколь многие, которые там правят, Как свиньи, влезут в этот мутный сток И по себе ужасный срам оставят!» 52 И я: «Учитель, если бы я мог Увидеть вьявь, как он в болото канет, Пока еще на озере челнок!» 55 И он ответил: «Раньше, чем проглянет Тот берег, утолишься до конца, И эта радость для тебя настанет». 58 Тут так накинулся на мертвеца Весь грязный люд в неистовстве великом, Что я поднесь благодарю Творца. 61 «Хватай Ардженти!» – было общим криком; И флорентийский дух, кругом тесним, Рвал сам себя зубами в гневе диком. 64 Так сгинул он, и я покончу с ним; Но тут мне в уши стон вонзился дальный, И взгляд мой распахнулся, недвижим. 67 «Мой сын, – сказал учитель достохвальный, – Вот город Дит,[195] и в нем заключены Безрадостные люди, сонм печальный». 70 И я: «Учитель, вот изза стены Встают его мечети, багровея, Как будто на огне раскалены». 73 «То вечный пламень, за оградой вея, – Сказал он, – башни красит багрецом; Так нижний Ад тебе открылся, рдея». 76 Челнок вошел в крутые рвы, кругом Объемлющие мрачный гребень вала; И стены мне казались чугуном. 79 Немалый круг мы сделали сначала И стали там, где кормчий мглистых вод: «Сходите! – крикнул нам. – Мы у причала». 82 Я видел на воротах много сот Дождем ниспавших с неба,[196] стражу входа, Твердивших: «Кто он, что сюда идет, 85 Не мертвый, в царство мертвого народа?» Вождь подал вид, что он бы им хотел Поведать тайну нашего прихода. 88 И те, кладя свирепости предел: «Сам подойди, но отошли второго, Раз в это царство он вступить посмел. 91 Безумный путь пускай свершает снова, Но без тебя; а ты у нас побудь, Его вожак средь сумрака ночного». 94 Помысли, чтец, в какую впал я жуть, Услышав этой речи звук проклятый; Я знал, что не найду обратный путь. 97 И я сказал: «О милый мой вожатый, Меня спасавший семь и больше раз, Когда мой дух робел, тоской объятый, 100 Не покидай меня в столь грозный час! Когда запретен город, нам представший, Вернемся вспять стезей, приведшей нас». 103 И властный муж, меня сопровождавший, Сказал: «Не бойся; нашего пути Отнять нельзя; таков его нам давший. 106 Здесь жди меня; и дух обогати Надеждой доброй; в этой тьме глубокой Тебя и дальше буду я блюсти». 109 Ушел благой отец, и одинокий Остался я, и в голове моей И «да», и «нет» творили спор жестокий. 112 Расслышать я не мог его речей; Но с ним враги беседовали мало, И каждый внутрь укрылся поскорей, 115 Железо их ворот загрохотало Пред самой грудью мудреца, и он, Оставшись вне, назад побрел устало. 118 Потупя взор и бодрости лишен, Он шел вздыхая, и уста шептали: «Кем в скорбный город путь мне возбранен!» 121 И мне он молвил: «Ты, хоть я в печали, Не бойся; я превозмогу и здесь, Какой бы тут отпор ни замышляли. 124 Не новость их воинственная спесь; Так было и пред внешними вратами,[197] Которые распахнуты поднесь. 127 Ты видел надпись с мертвыми словами; Уже оттуда, нисходя с высот, Без спутников, идет сюда кругами 130 Тот, чья рука нам город отомкнет». ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ 1 Цвет, робостью на мне запечатленный, Когда мой спутник повернул назад, – Согнал с его лица налет мгновенный.[198] 4 Он слушал, тщетно напрягая взгляд, Затем что вдаль глаза не уводили Сквозь черный воздух и болотный чад. 7 «И все ж мы победим, – сказал он, – или… Такая нам защитница[199] дана! О, где же тот, кто выше их усилий!» 10 Я видел, речь его рассечена, Начатую спешит покрыть иная, И с первою несходственна она. 13 Но я внимал ей, мужество теряя, Мрачней, быть может, чем она была, Оборванную мысль воспринимая. 16 «Туда, на дно печального жерла, Спускаются ли с первой той ступени,[200] Где лишь надежда в душах умерла?» 19 Так я спросил; и он: «Из нашей сени По этим, мною пройденным, тропам Лишь редкие досель сходили тени. 22 Но некогда я здесь прошел и сам, Злой Эрихто[201] заклятый, что умела Обратно души призывать к телам. 25 Едва лишь плоть во мне осиротела, Сквозь эти стены был я снаряжен За пленником Иудина предела.[202] 28 Всех ниже, всех темней, всех дальше он От горней сферы, связь миров кружащей;[203] Я знаю путь; напрасно ты смущен. 31 Низина эта заводью смердящей Повсюду облегает скорбный вал, Разгневанным отпором нам грозящий». 34 Не помню я, что он еще сказал: Всего меня мой глаз, в тоске раскрытый, К вершине рдяной башни приковал, 37 Где вдруг взвились, для бешеной защиты, Три Фурии, кровавы и бледны И гидрами зелеными обвиты; 40 Они как жены были сложены; Но, вместо кос, клубами змей пустыни Свирепые виски оплетены 43 И тот, кто ведал, каковы рабыни Властительницы вечных слез ночных, Сказал: «Взгляни на яростных Эриний. 46 Вот Тисифона, средняя из них; Левей – Мегера: справа олютело Рыдает Алекто́».[204] И он затих. 49 А те себе терзали грудь и тело Руками били; крик их так звенел, Что я к учителю приник несмело. 52 «Медуза[205] где? Чтоб он окаменел! – Они вопили, глядя вниз. – Напрасно Тезеевых мы не отмстили дел».[206] 55 «Закрой глаза и отвернись; ужасно Увидеть лик Горгоны; к свету дня Тебя ничто вернуть не будет властно». 58 Так молвил мой учитель и меня Поворотил, своими же руками, Поверх моих, глаза мне заслоня. 61 О вы, разумные, взгляните сами, И всякий наставленье да поймет, Сокрытое под странными стихами! 64 И вот уже по глади мутных вод Ужасным звуком грохот шел ревущий, Колебля оба брега, наш и тот, – 67 Такой, как если ветер всемогущий, Враждующими воздухами взвит, Преград не зная, сокрушает пущи, 70 Ломает ветви, рушит их и мчит; Вздымая прах, идет неудержимо, И зверь и пастырь от него бежит. 73 Открыв мне очи: «Улови, что зримо Там, – он промолвил, – где всего черней Над этой древней пеной горечь дыма». 76 Как от змеи, противницы своей, Спешат лягушки, расплываясь кругом, Чтоб на земле упрятаться верней, 79 Так, видел я, гонимые испугом, Станицы душ бежали пред одним, Который Стиксом шел, как твердым лугом. 82 Он отстранял от взоров липкий дым, Перед собою левой помавая, И, видимо, лишь этим был томим. 85 Посла небес[207] в идущем признавая, Я на вождя взглянул; и понял знак Пред ним склониться, уст не размыкая. 88 О, как он гневно шел сквозь этот мрак! Он стал у врат и тростию подъятой Их отворил, – и не боролся враг. 91 «О свергнутые с неба, род проклятый, – Возвысил он с порога грозный глас, – Что ты замыслил, слепотой объятый? 94 К чему бороться с волей выше вас, Которая идет стопою твердой И ваши беды множила не раз? 97 Что на судьбу кидаться в злобе гордой? Ваш Цербер, если помните о том, И до сих пор с потертой ходит мордой».[208] 100 И вспять нечистым двинулся путем, Нам не сказав ни слова, точно ктото, Кого теснит и гложет об ином, 103 Но не о том, кто перед ним, забота; И мы, ободрясь от священных слов, Свои шаги направили в ворота. 106 Мы внутрь вошли, не повстречав врагов, И я, чтоб ведать образ муки грешной, Замкнутой между крепостных зубцов, 109 Ступив вовнутрь, кидаю взгляд поспешный И вижу лишь пустынные места, Исполненные скорби безутешной. 112 Как в Арле[209], там, где Рона разлита, Как в Поле, где Карнаро многоводный[210] Смыкает Италийские врата, 115 Гробницами исхолмлен дол бесплодный, – Так здесь повсюду высились они, Но горечь этих мест была несходной; 118 Затем что здесь меж ям ползли огни, Так их каля, как в пламени горнила Железо не калилось искони. 121 Была раскрыта каждая могила, И горестный свидетельствовал стон, Каких она отверженцев таила 124 И я: «Учитель, кто похоронен В гробницах этих скорбных, что такими Стенаниями воздух оглашен?» 127 «Ересиархи, – молвил он, – и с ними Их присные, всех толков; глубь земли Они устлали толпами густыми. 130 Подобные с подобными легли, И зной в гробах где злей, где меньше страшен». Потом он вправо взял, и мы пошли 133 Меж полем мук и выступами башен. ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ 1 И вот идет, тропинкою, по краю, Между стеной кремля и местом мук, Учитель мой, и я вослед ступаю. 4 «О высший ум, из круга в горший круг, – Так начал я, – послушного стремящий, Ответь и к просьбе снизойди как друг. 7 Тех, кто положен здесь в земле горящей, Нельзя ль увидеть? Плиты у могил Откинуты, и стражи нет хранящей». 10 «Все будут замкнуты, – ответ мне был, – Когда вернутся из Иосафата[211] В той плоти вновь, какую кто носил. 13 Здесь кладбище для веривших когдато, Как Эпикур[212] и все, кто вместе с ним, Что души с плотью гибнут без возврата 16 Здесь ты найдешь ответ речам твоим И утоленье помысла другого,[213] Который в сердце у тебя таим». 19 И я: «Мой добрый вождь, иное слово Я берегу, в душе его храня, Чтоб заповедь твою[214] блюсти сурово». 22 «Тосканец, ты, что городом огня Идешь, живой, и скромен столь примерно, Прошу тебя, побудь вблизи меня. 25 Ты, судя по наречию, наверно Сын благородной родины моей, Быть может, мной измученной чрезмерно, 28 Нежданно грянул звук таких речей Из некоей могилы; оробело Я к моему вождю прильнул тесней. 31 И он мне: «Что ты смотришь так несмело? Взгляни, ты видишь: Фарината встал. Вот: все от чресл и выше видно тело». 34 Уже я взгляд в лицо ему вперял; А он, чело и грудь вздымая властно, Казалось, Ад с презреньем озирал. 37 Меня мой вождь продвинул безопасно Среди огней, лизавших нам пяты, И так промолвил: «Говори с ним ясно». 40 Когда я стал у поднятой плиты, В ногах могилы, мертвый, глянув строго, Спросил надменно: «Чей потомок ты?»
43 Я, повинуясь, не укрыл ни слога, Но в точности поведал обо всем; Тогда он брови изогнул немного, 46 Потом сказал: «То был враждебный дом Мне, всем моим сокровным и клевретам; Он от меня два раза нес разгром». 49 «Хоть изгнаны, – не медлил я ответом, – Они вернулись вновь со всех сторон; А вашим счастья нет в искусстве этом».[215] 52 Тут новый призрак, в яме, где и он, Приподнял подбородок выше края; Казалось, он коленопреклонен. 55 Он посмотрел окрест, как бы желая Увидеть, нет ли спутника со мной; Но умерла надежда, и, рыдая, 58 Он молвил: «Если в этот склеп слепой Тебя привел твой величавый гений, Где сын мой? Почему он не с тобой?» 61 «Я не своею волей в царстве теней, – Ответил я, – и здесь мой вождь стоит; А Гвидо ваш не чтил его творений». 64 Его слова и казни самый вид Мне явственно прочли, кого я встретил; И отзыв мой был ясен и открыт. 67 Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил? Он их не чтил? Его уж нет средь вас? Отрадный свет его очам не светел?» 70 И так как мой ответ на этот раз Недолгое молчанье предваряло, Он рухнул навзничь и исчез из глаз.[216] 73 А тот гордец, чья речь меня призвала Стать около, недвижен был и тих И облик свой не изменил нимало. 76 «То, – продолжал он снова, – что для них Искусство это трудным остается, Больнее мне, чем ложе мук моих. 79 Но раньше, чем в полсотый раз зажжется Лик госпожи, чью волю здесь творят,[217] Ты сам поймешь, легко ль оно дается. 82 Но в милый мир да обретешь возврат! – Поведай мне: зачем без снисхожденья Законы ваши всех моих клеймят?» 85 И я на это: «В память истребленья, Окрасившего Арбию[218] в багрец, У нас во храме так творят моленья». 88 Вздохнув в сердцах, он молвил наконец: «Там был не только я, и в бой едва ли Шел беспричинно хоть один боец. 91 Зато я был один,[219] когда решали Флоренцию стереть с лица земли; Я спас ее, при поднятом забрале». 94 «О, если б ваши внуки мир нашли! – Ответил я. – Но разрешите путы, Которые мой ум обволокли. 97 Как я сужу, пред вами разомкнуты Сокрытые в грядущем времена, А в настоящем взор ваш полон смуты».[220] 100 «Нам только даль отчетливо видна, – Он отвечал, – как дальнозорким людям; Лишь эта ясность нам Вождем дана. 103 Что близится, что есть, мы этим трудим Наш ум напрасно; по чужим вестям О вашем смертном бытии мы судим. 106 Поэтому, – как ты поймешь и сам, – Едва замкнется дверь времен грядущих,[221] Умрет все знанье, свойственное нам». 109 И я, в скорбях, меня укором жгущих: «Поведайте упавшему тому, Что сын его еще среди живущих; 112 Я лишь затем не отвечал ему, Что размышлял, сомнением объятый, Над тем, что ныне явственно уму». 115 Уже меня окликнул мой вожатый; Я молвил духу, что я речь прерву, Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой. 118 И он: «Здесь больше тысячи во рву; И Федерик Второй[222] лег в яму эту, И кардинал[223]; лишь этих назову». 121 Тут он исчез; и к древнему поэту Я двинул шаг, в тревоге от угроз,[224] Ища разгадку темному ответу. 124 Мы вдаль пошли; учитель произнес: «Чем ты смущен? Я это сердцем чую». И я ему ответил на вопрос. 127 «Храни, как слышал, правду роковую Твоей судьбы», – мне повелел поэт. Потом он поднял перст: «Но знай другую: 130 Когда ты вступишь в благодатный свет Прекрасных глаз, все видящих правдиво, Постигнешь путь твоих грядущих лет».[225] 133 Затем левей он взял неторопливо, И нас от стен повел пологий скат К средине круга, в сторону обрыва, 136 Откуда тяжкий доносился смрад. ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ 1 Мы подошли к окраине обвала, Где груда скал под нашею пятой Еще страшней пучину открывала. 4 И тут от вони едкой и густой, Навстречу нам из пропасти валившей, Мой вождь и я укрылись за плитой 7 Большой гробницы, с надписью, гласившей: «Здесь папа Анастасий заточен, Вослед Фотину правый путь забывший».[226] 10 «Не торопись ступать на этот склон, Чтоб к запаху привыкло обонянье; Потом мешать уже не будет он». 13 Так спутник мой. «Заполни ожиданье, Чтоб не пропало время», – я сказал. И он в ответ: «То и мое желанье». 16 «Мой сын, посередине этих скал, – Так начал он, – лежат, как три ступени, Три круга, меньше тех, что ты видал. 19 Во всех толпятся проклятые тени; Чтобы потом лишь посмотреть на них, Узнай их грех и образ их мучений. 22 В неправде, вредоносной для других, Цель всякой злобы, небу неугодной; Обман и сила – вот орудья злых. 25 Обман, порок, лишь человеку сродный, Гнусней Творцу; он заполняет дно И пыткою казнится безысходной. 28 Насилье в первый круг заключено, Который на три пояса дробится, Затем что видом тройственно оно, 31 Творцу, себе и ближнему чинится Насилье, им самим и их вещам, Как ты, внимая, можешь убедиться. 34 Насилье ближний терпит или сам, Чрез смерть и раны, или подвергаясь Пожарам, притесненьям, грабежам. 37 Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь, Громилы и разбойники идут Во внешний пояс, в нем распределяясь. 40 Иные сами смерть себе несут И своему добру; зато так больно Себя же в среднем поясе клянут 43 Те, кто ваш мир отринул своевольно, Кто возлюбил игру и мотовство И плакал там, где мог бы жить привольно. 46 Насильем оскорбляют божество, Хуля его и сердцем отрицая, Презрев любовь Творца и естество. 49 За это пояс, вьющийся вдоль края, Клеймит огнем Каорсу и Содом[227] И тех, кто ропщет, бога отвергая. 52 Обман, который всем сердцам знаком, Приносит вред и тем, кто доверяет, И тем, кто не доверился ни в чем. 55 Последний способ связь любви ломает, Но только лишь естественную связь; И казнь второго круга тех терзает, 58 Кто лицемерит, льстит, берет таясь, Волшбу, подлог, торг должностью церковной, Мздоимцев, своден и другую грязь. 61 А первый способ, разрушая кровный Союз любви, вдобавок не щадит Союз доверья, высший и духовный. 64 И самый малый круг, в котором Дит[228] Воздвиг престол и где ядро вселенной, Предавшего навеки поглотит».[229] 67 И я: «Учитель, в речи совершенной Ты образ бездны предо мной явил И рассказал, кто в ней томится пленный. 70 Но молви: те, кого объемлет ил, И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный, И те, что спорят из последних сил, 73 Зачем они не в этот город красный Заключены, когда их проклял бог? А если нет, зачем они несчастны?» 76 И он сказал на это: «Как ты мог Так отступить от здравого сужденья? И где твой ум блуждает без дорог? 79 Ужели ты не помнишь изреченья Из Этики, что пагубней всего Три ненавистных небесам влеченья: 82 Несдержность, злоба, буйное скотство? И что несдержность – меньший грех пред богом И он не так карает за него? 85 Обдумав это в размышленьи строгом И вспомнив тех, чье место вне стены И кто наказан за ее порогом, 88 Поймешь, зачем они отделены От этих злых и почему их муки Божественным судом облегчены».[230] 91 «О свет, которым зорок близорукий, Ты учишь так, что я готов любить Неведенье не менее науки. 94 Вернись, – сказал я, – чтобы разъяснить, В чем ростовщик чернит своим пороком Любовь Творца; распутай эту нить». 97 И он: «Для тех, кто дорожит уроком, Не раз философ[231] повторил слова, Что естеству являются истоком 100 Премудрость и искусство божества. И в Физике прочтешь,[232] и не в исходе, А только лишь перелистав едва: 103 Искусство смертных следует природе, Как ученик ее, за пядью пядь; Оно есть божий внук, в известном роде. 106 Им и природой, как ты должен знать Из книги Бытия, господне слово Велело людям жить и процветать. 109 А ростовщик, сойдя с пути благого, И самою природой пренебрег, И спутником ее,[233] ища другого. 112 Но нам пора; прошел немалый срок; Блеснули Рыбы над чертой востока, И Воз уже совсем над Кавром лег,[234] 115 А к спуску нам идти еще далеко». ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ 1 Был грозен срыв, откуда надо было Спускаться вниз, и зрелище являл, Которое любого бы смутило. 4 Как ниже Тренто видится обвал, Обрушенный на Адиче когдато Землетрясеньем иль паденьем скал,[235] 7 И каменная круча так щербата, Что для идущих сверху поселян Как бы тропинкой служат глыбы ската, 10 Таков был облик этих мрачных стран; А на краю, над сходом к бездне новой, Раскинувшись, лежал позор критян, 13 Зачатый древле мнимою коровой.[236] Завидев нас, он сам себя терзать Зубами начал в злобе бестолковой. 16 Мудрец ему: «Ты бесишься опять? Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком, Который приходил тебя заклать? 19 Посторонись, скот! Хитростным наукам Твоей сестрой мой спутник не учен; Он только соглядатай вашим мукам».[237] 22 Как бык, секирой насмерть поражен, Рвет свой аркан, но к бегу неспособен И только скачет, болью оглушен, 25 Так Минотавр метался, дик и злобен; И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги! Пока он в гневе, миг как раз удобен». 28 Мы под уклон направили шаги, И часто камень угрожал обвалом Под новой тяжестью моей ноги. 31 Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам, Где этот лютый зверь не тронул нас? – Промолвил вождь по размышленье малом. – 34 Так знай же, что, когда я прошлый раз[238] Шел нижним Адом в сумрак сокровенный, Здесь не лежали глыбы, как сейчас. 37 Но перед тем, как в первый круг геенны Явился тот, кто стольких в небо взял, Которые у Дита были пленны, 40 Так мощно дрогнул пасмурный провал,[239] Что я подумал – мир любовь объяла, Которая, как некто полагал, 43 Его и прежде в хаос обращала;[240] Тогда и этот рушился утес, И не одна койгде скала упала. 46 Но посмотри: вот, окаймив откос, Течет поток кровавый,[241] сожигая Тех, кто насилье ближнему нанес». 49 О гнев безумный, о корысть слепая, Вы мучите наш краткий век земной И в вечности томите, истязая! 52 Я видел ров, изогнутый дугой И всю равнину обходящий кругом, Как это мне поведал спутник мой; 55 Меж ним и кручей мчались друг за другом Кентавры, как, бывало, на земле, Гоняя зверя, мчались вольным лугом. 58 Все стали, нас приметив на скале, А трое подскакали ближе к краю, Готовя лук и выбрав по стреле. 61 Один из них, опередивший стаю, Кричал: «Кто вас послал на этот след? Скажите с места, или я стреляю». 64 Учитель мой промолвил: «Мы ответ Дадим Хирону[242], под его защитой. Ты был всегда горяч, себе во вред». 67 И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый За Деяниру, гнев предсмертный свой Запечатлевший местью знаменитой.[243] 70 Тот, средний, со склоненной головой, – Хирон, Ахиллов пестун величавый; А третий – Фол[244], с душою грозовой. 73 Их толпы вдоль реки снуют облавой, Стреляя в тех, кто, по своим грехам, Всплывет не в меру из волны кровавой». 76 Мы подошли к проворным скакунам; Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы Густых усов, пригладил их к щекам 79 И, опростав свои большие губы, Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец, Когда идет, шевелит камень грубый; 82 Так не ступает ни один мертвец». Мой добрый вождь, к его приблизясь груди, Где две природы[245] сочетал стрелец, 85 Сказал: «Он жив, как все живые люди; Я – вождь его сквозь сумрачный простор; Он следует нужде, а не причуде. 88 А та, чей я свершаю приговор, Сходя ко мне, прервала аллилуйя;[246] Я сам не грешный дух, и он не вор. 91 Верховной волей в страшный путь иду я. Так пусть же с нами двинется в поход Один из вас, дорогу указуя, 94 И этого на круп к себе возьмет И переправит в месте неглубоком; Ведь он не тень, что в воздухе плывет». 97 Хирон направо обратился боком И молвил Нессу: «Будь проводником; Других гони, коль встретишь ненароком». 100 Вдоль берега, над алым кипятком, Вожатый нас повел без прекословий. Был страшен крик варившихся живьем. 103 Я видел погрузившихся по брови. Кентавр сказал: «Здесь не один тиран, Который жаждал золота и крови: 106 Все, кто насильем осквернил свой сан. Здесь Александр[247] и Дионисий лютый, Сицилии нанесший много ран; 109 Вот этот, с черной шерстью, – пресловутый Граф Адзолино;[248] светлый, рядом с ним, – Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты 112 Родимым сыном истреблен своим».[249] Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный: «Здесь он да будет первым, я – вторым».[250] 115 Потом мы подошли к неотдаленной Толпе людей, где каждый был покрыт По горло этой влагой раскаленной. 118 Мы видели – один вдали стоит. Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью То сердце, что над Темзой кровь точит».[251] 121 Потом я видел, ниже по теченью, Других, являвших плечи, грудь, живот; Иной из них мне был знакомой тенью. 124 За пядью пядь, спадал волноворот, И под конец он обжигал лишь ноги; И здесь мы реку пересекли вброд. 127 «Как до сих пор, всю эту часть дороги, – Сказал кентавр, – мелеет кипяток, Так, дальше, снова под уклон отлогий 130 Уходит дно, и пучится поток, И, полный круг смыкая там, где стонет Толпа тиранов, он опять глубок. 133 Там под небесным гневом выю клонит И Аттила[252], когдато бич земли, И Пирр, и Секст;[253] там мука слезы гонит, 136 И вечным плачем лица обожгли Риньер де'Пацци и Риньер Корнето,[254] Которые такой разбой вели». 139 Тут он помчался вспять и скрылся гдето. ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ 1 Еще кентавр не пересек потока, Как мы вступили в одичалый лес, Где ни тропы не находило око. 4 Там бурых листьев сумрачен навес, Там вьется в узел каждый сук ползущий, Там нет плодов, и яд в шипах древес. 7 Такой унылой и дремучей пущи От Чечины и до Корнето[255] нет, Приют зверью пустынному дающей. 10 Там гнезда гарпий, их поганый след,
Тех, что троян, закинутых кочевьем, Прогнали со Строфад предвестьем бед.[256] 13 С широкими крылами, с ликом девьим, Когтистые, с пернатым животом, Они тоскливо кличут по деревьям. 16 «Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, – Так начал мой учитель, наставляя, – Знай, что сейчас мы в поясе втором, 19 А там, за ним, пустыня огневая. Здесь ты увидишь то, – добавил он, – Чему бы не поверил, мне внимая». 22 Я отовсюду слышал громкий стон, Но никого окрест не появлялось; И я остановился, изумлен. 25 Учителю, мне кажется, казалось, Что мне казалось, будто это крик Толпы какойто, что в кустах скрывалась. 28 И мне сказал мой мудрый проводник: «Тебе любую ветвь сломать довольно, Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг». 31 Тогда я руку протянул невольно К терновнику и отломил сучок; И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!» 34 В надломе кровью потемнел росток И снова крикнул: «Прекрати мученья! Ужели дух твой до того жесток? 37 Мы были люди, а теперь растенья. И к душам гадов было бы грешно Выказывать так мало сожаленья». 40 И как с конца палимое бревно От тока ветра и его накала В другом конце трещит и слез полно, 43 Так раненое древо источало Слова и кровь; я в ужасе затих, И наземь ветвь из рук моих упала. 46 «Когда б он знал, что на путях своих, – Ответил вождь мой жалобному звуку, – Он встретит то, о чем вещал мой стих,[257] 49 О бедный дух, он не простер бы руку. Но чтоб он мог чудесное познать, Тебя со скорбью я обрек на муку. 52 Скажи ему, кто ты; дабы воздать Тебе добром, он о тебе вспомянет В земном краю, куда взойдет опять». 55 И древо: «Твой призыв меня так манит, Что не могу внимать ему, молча; И пусть не в тягость вам рассказ мой станет. 58 Я тот,[258] кто оба сберегал ключа[259] От сердца Федерика и вращал их К затвору и к отвору, не звуча, 61 Хранитель тайн его, больших и малых. Неся мой долг, который мне был свят, Я не щадил ни сна, ни сил усталых. 64 Развратница[260], от кесарских палат Не отводящая очей тлетворных, Чума народов и дворцовый яд, 67 Так воспалила на меня придворных, Что Август[261], их пыланьем воспылав, Низверг мой блеск в пучину бедствий черных 70 Смятенный дух мой, вознегодовав, Замыслил смертью помешать злословью, И правый стал перед собой неправ.[262] 73 Моих корней клянусь ужасной кровью, Я жил и умер, свой обет храня, И господину я служил любовью! 76 И тот из вас, кто выйдет к свету дня, Пусть честь мою излечит от извета, Которым зависть ранила меня!» 79 «Он смолк, – услышал я из уст поэта. – Заговори с ним, – время не ушло, – Когда ты ждешь на чтонибудь ответа». 82 «Спроси его что хочешь, что б могло Быть мне полезным, – молвил я, смущенный. – Я не решусь; мне слишком тяжело». 85 «Вот этот, – начал спутник благосклонный, – Готов свершить тобой просимый труд. А ты, о дух, в темницу заточенный, 88 Поведай нам, как душу в плен берут Узлы ветвей; поведай, если можно, Выходят ли когда из этих пут». 91 Тут ствол дохнул огромно и тревожно, И в этом вздохе слову был исход: «Ответ вам будет дан немногосложно. 94 Когда душа, ожесточась, порвет Самоуправно оболочку тела, Минос[263] ее в седьмую бездну шлет. 97 Ей не дается точного предела; Упав в лесу, как малое зерно, Она растет, где ей судьба велела. 100 Зерно в побег и в ствол превращено; И гарпии, кормясь его листами, Боль создают и боли той окно.[264] 103 Пойдем и мы за нашими телами,[265] Но их мы не наденем в Судный день: Не наше то, что сбросили мы сами.[266] 106 Мы их притащим в сумрачную сень, И плоть повиснет на кусте колючем, Где спит ее безжалостная тень». 109 Мы думали, что ствол, тоскою мучим, Еще и дальше говорить готов, Но услыхали шум в лесу дремучем, 112 Как на облаве внемлет зверолов, Что мчится вепрь и вслед за ним борзые, И слышит хруст растоптанных кустов. 115 И вот бегут,[267] левее нас, нагие, Истерзанные двое, меж ветвей, Ломая грудью заросли тугие. 118 Передний[268]: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!» Другой[269], который не отстать старался, Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей, 121 Чем был, когда у Топпо подвизался!» Он, задыхаясь, посмотрел вокруг, Свалился в куст и в груду с ним смешался. 124 А сзади лес был полон черных сук, Голодных и бегущих без оглядки, Как гончие, когда их спустят вдруг. 127 В упавшего, всей силой жадной хватки, Они впились зубами на лету И растащили бедные остатки. 130 Мой проводник повел меня к кусту; А тот, в крови, оплакивал, стеная, Своих поломов горькую тщету: 133 «О Джакомо да СантАндреа! Злая Была затея защищаться мной! Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?» 136 Остановясь над ним, наставник мой Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны Струящий с кровью скорбный голос свой?» 139 И он в ответ: «О души, в эти страны Пришедшие сквозь вековую тьму, Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный, 142 Сгребите листья к терну моему! Мой город – тот, где ради Иоанна Забыт былой заступник; потому 145 Его искусство мстит нам неустанно;[270] И если бы поднесь у Арнских вод Его частица не была сохранна, 148 То строившие сызнова оплот На Аттиловом грозном пепелище – Напрасно утруждали бы народ.[271] 151 Я сам себя казнил в моем жилище».[272] ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1 Объят печалью о местах, мне милых, Я подобрал опавшие листы И обессиленному возвратил их. 4 Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты, Где третий пояс лег внутри второго И гневный суд вершится с высоты. 7 Дабы явить, что взору было ново, Скажу, что нам, огромной пеленой, Открылась степь, где нет ростка живого. 10 Злосчастный лес ее обвил[273] каймой, Как он и сам обвит рекой горючей; Мы стали с краю, я и спутник мой. 13 Вся даль была сплошной песок сыпучий, Как тот, который попирал Катон[274], Из края в край пройдя равниной жгучей. 16 О божья месть, как тяжко устрашен Быть должен тот, кто прочитает ныне, На что мой взгляд был въяве устремлен! 19 Я видел толпы голых душ в пустыне: Все плакали, в терзанье вековом, Но разной обреченные судьбине. 22 Кто был повержен навзничь, вверх лицом, Кто, съежившись, сидел на почве пыльной, А кто сновал без устали кругом.[275] 25 Разряд шагавших самый был обильный; Лежавших я всех меньше насчитал, Но вопль их скорбных уст был самый сильный. 28 А над пустыней медленно спадал Дождь пламени, широкими платками, Как снег в безветрии нагорных скал. 31 Как Александр, под знойными лучами Сквозь Индию ведя свои полки, Настигнут был падучими огнями 34 И приказал, чтобы его стрелки Усерднее топтали землю, зная, Что порознь легче гаснут языки,[276] – 37 Так опускалась вьюга огневая; И прах пылал, как под огнивом трут, Мучения казнимых удвояя. 40 И я смотрел, как вечный пляс ведут Худые руки, стряхивая с тела То здесь, то там огнепалящий зуд. 43 Я начал: «Ты, чья сила одолела Все, кроме бесов, коими закрыт Нам доступ был у грозного предела,[277] 46 Кто это, рослый, хмуро так лежит,[278] Презрев пожар, палящий отовсюду? Его и дождь, я вижу, не мягчит». 49 А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду, Его гордыне, отвечал, крича: «Каким я жил, таким и в смерти буду! 52 Пускай Зевес замучит ковача,[279] Из чьей руки он взял перун железный, Чтоб в смертный день меня сразить сплеча, 55 Или пускай работой бесполезной Всех в Монджибельской кузне[280] надорвет, Вопя: «Спасай, спасай, Вулкан любезный!», 58 Как он над Флегрой[281] возглашал с высот, И пусть меня громит грозой всечасной, – Веселой мести он не обретет!» 61 Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной, Какой я в нем не слышал никогда: «О Капаней, в гордыне неугасной – 64 Твоя наитягчайшая беда: Ты сам себя, в неистовстве великом, Казнишь жесточе всякого суда». 67 И молвил мне, с уже спокойным ликом: «Он был один из тех семи царей, Что осаждали Фивы; в буйстве диком, 70 Гнушался богом – и не стал смирней; Как я ему сказал, он по заслугам Украшен славой дерзостных речей. 73 Теперь идем, как прежде, друг за другом; Но не касайся жгучего песка, А обходи, держась опушки, кругом». 76 В безмолвье мы дошли до ручейка, Спешащего из леса быстрым током, Чья алость мне и до сих пор жутка. 79 Как Буликаме убегает стоком, В котором воду грешницы берут, Так нистекал и он в песке глубоком.[282] 82 Закраины, что по бокам идут, И дно его, и склоны – камнем стали; Я понял, что дорога наша – тут. 85 «Среди всего, что мы с тобой видали С тех самых пор, как перешли порог, Открытый всем входящим, ты едва ли 88 Чудеснее чтолибо встретить мог, Чем эта речка, силой испаренья Смиряющая всякий огонек». 91 Так молвил вождь; взыскуя поученья, Я попросил, чтоб, голоду вослед, Он мне и пищу дал для утоленья. 94 «В средине моря, – молвил он в ответ, – Есть ветхий край, носящий имя Крита, Под чьим владыкой был безгрешен свет.[283] 97 Меж прочих гор там Ида знаменита; Когдато влагой и листвой блестя, Теперь она пустынна и забыта. 100 Ей Рея вверила свое дитя, Ища ему приюта и опеки И плачущего шумом защитя.[284] 103 В горе стоит великий старец некий; Он к Дамиате обращен спиной И к Риму, как к зерцалу, поднял веки. 106 Он золотой сияет головой, А грудь и руки – серебро литое, И дальше – медь, дотуда, где раздвой; 109 Затем – железо донизу простое, Но глиняная правая плюсна, И он на ней почил, как на устое.[285] 112 Вся плоть, от шеи вниз, рассечена, И капли слез сквозь трещины струятся, И дно пещеры гложет их волна. 115 В подземной глубине из них родятся И Ахерон, и Стикс, и Флегетон; Потом они сквозь этот сток стремятся, 118 Чтоб там, внизу, последний минув склон, Создать Коцит; но умолчу про это; Ты вскоре сам увидишь тот затон».[286] 121 Я молвил: «Если из земного света Досюда эта речка дотекла, Зачем она от нас таилась гдето?» 124 И он: «Вся эта впадина кругла; Хотя и шел ты многими тропами Все влево, опускаясь в глубь жерла, 127 Но полный круг еще не пройден нами;[287] И если случай новое принес, То не дивись смущенными очами». 130 «А Лета где? – вновь задал я вопрос. – Где Флегетон? Ее ты не отметил, А тот, ты говоришь, возник из слез». 133 «Ты правильно спросил, – мой вождь ответил. Но в клокотаньи этих алых вод Одну разгадку ты воочью встретил.[288] 136 Придешь и к Лете, но она течет Там, где душа восходит к омовенью, Когда вина избытая спадет». 139 Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью[289] Простимся; следуй мне и след храни: Тропа идет вдоль русла, по теченью, 142 Где влажный воздух гасит все огни». ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ 1 Вот мы идем вдоль каменного края; А над ручьем обильный пар встает, От пламени плотину избавляя. 4 Как у фламандцев выстроен оплот Меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заране Предотвратить напор могучих вод, 7 И как вдоль Бренты строят падуане, Чтоб замок и посад был защищен, Пока не дышит зной на Кьярентане,[290] 10 Так сделаны и эти,[291] с двух сторон, Хоть и не столь высоко и широко Их создал мастер, кто бы ни был он. 13 Уже от рощи были мы далеко, И сколько б я ни обращался раз, Я к ней напрасно устремлял бы око. 16 Навстречу нам шли тени и на нас Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку, Как в новолунье люди, в поздний час, 19 Друг друга озирают втихомолку; И каждый бровью пристально повел, Как старый швец, вдевая нить в иголку. 22 Одним из тех, кто, так взирая, шел, Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!» Он ухватил меня за мой подол. 25 Я в опаленный лик взглянул пытливо, Когда рукой он взялся за кайму, И темный образ явственно и живо 28 Себя открыл рассудку моему; Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна: «Вы, сэр Брунетто[292]?» – молвил я ему. 31 И он: «Мой сын, тебе не неприятно, Чтобы, покинув остальных, с тобой Латино чуточку прошел обратно?» 34 Я отвечал: «Прошу вас всей душой; А то, хотите, я присяду с вами, Когда на то согласен спутник мой». 37 И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами Помедлит миг, потом лежит сто лет, Не шевелясь, бичуемый огнями. 40 Ступай вперед; я – низом, вам вослед; Потом вернусь к дружине, вопиющей О вечности своих великих бед». 43 Я не посмел идти равниной жгущей Бок о бок с ним; но головой поник, Как человек, почтительно идущий. 46 Он начал: «Что за рок тебя подвиг Спуститься раньше смерти в царство это? И кто, скажи мне, этот проводник?» 49 «Там, наверху, – я молвил, – в мире света, В долине заблудился я одной, Не завершив мои земные лета. 52 Вчера лишь утром к ней я стал спиной, Но отступил; тогда его я встретил, И вот он здесь ведет меня домой». 55 «Звезде твоей доверься,[293] – он ответил, – И в пристань славы вступит твой челнок, Коль в милой жизни верно я приметил. 58 И если б я не умер в ранний срок,[294] То, видя путь твой, небесам угодный, В твоих делах тебе бы я помог. 61 Но этот злой народ неблагородный, Пришедший древле с Фьезольских высот И до сих пор горе и камню сродный,[295] 64 За все добро врагом тебя сочтет: Среди худой рябины не пристало Смоковнице растить свой нежный плод. 67 Слепыми их прозвали изначала;[296] Завистливый, надменный, жадный люд; Общенье с ним тебя бы запятнало. 70 В обоих станах,[297] увидав твой труд, Тебя взалкают;[298] только попустому, И клювы их травы не защипнут. 73 Пусть фьезольские твари,[299] как солому, Пожрут себя, не трогая росток, Коль в их навозе место есть такому, 76 Который семя чистое сберег Тех римлян, что когдато основались В гнездилище неправды и тревог».[300] 79 «Когда бы все мои мольбы свершались, – Ответил я, – ваш день бы не угас, И вы с людьми еще бы не расстались. 82 Во мне живет, и горек мне сейчас, Ваш отчий образ, милый и сердечный, Того, кто наставлял меня не раз, 85 Как человек восходит к жизни вечной;[301] И долг пред вами я, в свою чреду, Отмечу словом в жизни быстротечной. 88 Я вашу речь запечатлел и жду, Чтоб с ней другие записи[302] сличила Та, кто умеет,[303] если к ней взойду. 91 Но только знайте: лишь бы не корила Мне душу совесть, я в сужденный миг Готов на все, что предрекли светила. 94 К таким посулам[304] я уже привык; Так пусть Фортуна колесом вращает, Как ей угодно, и киркой – мужик!» 97 Тут мой учитель[305] на меня взирает Чрез правое плечо и говорит: «Разумно слышит тот, кто примечает». 100 Меж тем и сэр Брунетто не молчит На мой вопрос, кто из его собратий[306] Особенно высок и знаменит. 103 Он молвил так: «Иных отметить кстати; Об остальных похвально умолчать, Да и не счесть такой обильной рати. 106 То люди церкви, лучшая их знать, Ученые, известные всем странам; Единая пятнает их печать. 109 В том скорбном сонме – вместе с Присцианом[307] Аккурсиев Франциск;[308] и я готов Сказать, коль хочешь, и о том поганом, 112 Который послан был рабом рабов От Арно к Баккильоне, где и скинул Плотской, к дурному влекшийся, покров.[309] 115 Еще других я назвал бы; но минул Недолгий срок беседы и пути: Песок, я вижу, новой пылью хлынул; 118 От этих встречных должен я уйти, Храни мой Клад[310], я в нем живым остался; Прошу тебя лишь это соблюсти». 121 Он обернулся и бегом помчался, Как те, кто под Вероною бежит К зеленому сукну, причем казался 124 Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.[311] ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ 1 Уже вблизи я слышал гул тяжелый Воды, спадавшей в следующий круг, Как если бы гудели в ульях пчелы, – 4 Когда три тени отделились вдруг, Метнувшись к нам, от шедшей вдоль потока Толпы, гонимой ливнем жгучих мук.[312] 7 Спеша, они взывали издалека: «Постой! Мы по одежде признаем, Что ты пришел из города порока!» 10 О, сколько язв, изглоданных огнем, Являл очам их облик несчастливый! Мне больно даже вспоминать о нем. 13 Мой вождь сказал, услышав их призывы И обратясь ко мне: «Повремени. Нам нужно показать, что мы учтивы. 16 Я бы сказал, когда бы не огни, Разящие, как стрелы, в этом зное, Что должен ты спешить, а не они». 19 Чуть мы остановились, те былое Возобновили пенье;[313] к нам домчась, Они кольцом забегали[314] все трое. 22 Как голые атлеты, умастясь, Друг против друга кружат по арене, Чтобы потом схватиться, изловчась, 25 Так возле нас кружили эти тени, Лицом ко мне, вращая шею вспять, Когда вперед стремились их колени. 28 «Увидев эту взрыхленную гладь, – Воззвал один, – и облик наш кровавый, Ты нас, просящих, должен презирать; 31 Но преклонись, во имя нашей славы, Сказать нам, кто ты, адскою тропой Идущий мимо нас, живой и здравый! 34 Вот этот, чьи следы я мну стопой, – Хоть голый он и струпьями изрытый, Был выше, чем ты думаешь, судьбой. 37 Он внуком был Гвальдрады[315] именитой И звался Гвидо Гверра, в мире том Мечом и разуменьем знаменитый. 40 Тот, пыль толкущий за моим плечом, – Теггьяйо Альдобранди, чьи заслуги Великим должно поминать добром. 43 И я, страдалец этой жгучей вьюги, Я, Рустикуччи, распят здесь, виня В моих злосчастьях нрав моей супруги».[316] 46 Будь у меня защита от огня, Я бросился бы к ним с тропы прибрежной, И мой мудрец одобрил бы меня; 49 Но, устрашенный болью неизбежной, Я побоялся кинуться к теням И к сердцу их прижать с приязнью нежной. 52 Потом я начал: «Не презренье к вам, А скорбь о вашем горестном уделе Вошла мне в душу, чтоб остаться там, 55 Когда мой вождь, завидев вас отселе, Сказал слова, явившие сполна, Что вы такие, как и есть на деле. 58 Отчизна с вами у меня одна; И я любил и почитал измлада Ваш громкий труд и ваши имена. 61 Отвергнув желчь, взыскую яблок сада, Обещанного мне вождем моим; Но прежде к средоточью[317] пасть мне надо». 64 «Да будешь долго ты руководим, – Ответил он, – душою в теле здравом; Да светит слава по следам твоим! 67 Скажи: любовь к добру и к честным нравам Еще живет ли в городе у нас, Иль разбрелась давно по всем заставам? 70 Гульельмо Борсиере, здесь как раз Теперь казнимый, – вон он там, в пустыне, – Принес с собой нерадостный рассказ».[318] 73 «Ты предалась беспутству и гордыне, Пришельцев и наживу обласкав, Флоренция, тоскующая ныне!» 76 Так я вскричал, лицо мое подняв; Они переглянулись, вняв ответу, Подобно тем, кто слышит, что был прав. 79 «Когда все просьбы так легко, как эту, Ты утоляешь, – отклик их гласил, – Счастливец ты, дарящий правду свету! 82 Да узришь снова красоту светил, Простясь с неозаренными местами! Тогда, с отрадой вспомянув: «Я был», 85 Скажи другим, что ты видался с нами!» И тут они помчались вдоль пути, И ноги их казались мне крылами. 88 Нельзя «аминь» быстрей произнести, Чем их сокрыли дали кругозора; И мой учитель порешил идти. 91 Я двинулся вослед за ним; и скоро Послышался так близко грохот вод, Что заглушил бы звуки разговора. 94 Как та река, которая свой ход От МонтеВезо в сторону рассвета По Апеннинам первая ведет, 97 Зовясь в своем верховье Аквакета, Чтоб устремиться к низменной стране И у Форли утратить имя это, 100 И громыхает вниз по крутизне, К СанБенедетто Горному спадая,[319] Где тысяча вместилась бы вполне,[320] – 103 Так, рушась вглубь с обрывистого края, Мы слышали, багровый вал гремит, Мгновенной болью ухо поражая. 106 Стан у меня веревкой был обвит; Я думал ею рысь поймать когдато, Которой мех так весело блестит. 109 Я снял ее и, повинуясь свято, Вручил ее поэту моему, Смотав плотней для лучшего обхвата. 112 Он, боком став и так, чтобы ему Не зацепить за выступы обрыва, Швырнул ее в зияющую тьму.[321] 115 «На странный знак не странное ли диво, – Сказал я втайне, – явит глубина, Раз и учитель смотрит так пытливо?» 118 Увы, какая сдержанность нужна Близ тех, кто судит не одни деянья, Но видит самый разум наш до дна! 121 «Сейчас всплывет, – сказал наставник знанья, – То, что я жду и сам ты смутно ждешь; Сейчас твой взор достигнет созерцанья». 124 Мы истину, похожую на ложь, Должны хранить сомкнутыми устами, Иначе срам безвинно наживешь; 127 Но здесь молчать я не могу; стихами Моей Комедии[322] клянусь, о чтец, – И милость к ней да не прейдет с годами, – 130 Я видел – к нам из бездны, как пловец, Взмывал какойто образ возраставший, Чудесный и для дерзостных сердец; 133 Так снизу возвращается нырявший, Который якорь выпростать помог, В камнях иль в чемнибудь другом застрявший, 136 И правит станом и толчками ног. ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ 1 Вот острохвостый зверь, сверлящий горы, Пред кем ничтожны и стена, и меч; Вот, кто земные отравил просторы». 4 Такую мой вожатый начал речь, Рукою подзывая великана Близ пройденного мрамора[323] возлечь. 7 И образ омерзительный обмана, Подплыв, но хвост к себе не подобрав, Припал на берег всей громадой стана. 10 Он ясен был лицом и величав Спокойством черт приветливых и чистых, Но остальной змеиным был состав. 13 Две лапы, волосатых и когтистых; Спина его, и брюхо, и бока – В узоре пятен и узлов цветистых. 16 Пестрей основы и пестрей утка Ни турок, ни татарин не сплетает; Хитрей Арахна[324] не ткала платка. 19 Как лодка на причале отдыхает, Наполовину погрузясь в волну; Как там, где алчный немец обитает, 22 Садится бобр вести свою войну,[325] – Так лег и гад на камень оголенный, Сжимающий песчаную страну. 25 Хвост шевелился в пустоте бездонной, Крутя торчком отравленный развил, Как жало скорпиона заостренный.[326] 28 «Теперь нам нужно, – вождь проговорил, – Свернуть с дороги, поступь отклоняя Туда, где гнусный зверь на камни всплыл». 31 Так мы спустились вправо[327] и, вдоль края, Пространство десяти шагов прошли, Песка и жгучих хлопьев избегая. 34 Приблизясь, я увидел невдали Толпу людей,[328] которая сидела Близ пропасти в сжигающей пыли. 37 И мне мой вождь: «Чтоб этот круг всецело Исследовать во всех его частях, Ступай, взгляни, в чем разность их удела. 40 Но будь короче там в твоих речах; А я поговорю с поганым дивом, Чтоб нам спуститься на его плечах». 43 И я пошел еще раз над обрывом, Каймой седьмого круга, одинок, К толпе, сидевшей в горе молчаливом. 46 Из глаз у них стремился скорбный ток; Они все время то огонь летучий Руками отстраняли, то песок. 49 Так чешутся собаки в полдень жгучий, Обороняясь лапой или ртом От блох, слепней и мух, насевших кучей. 52 Я всматривался в лица их кругом, В которые огонь вонзает жала; Но вид их мне казался незнаком. 55 У каждого на грудь мошна свисала, Имевшая особый знак и цвет,[329] И очи им как будто услаждала. 58 Так, на одном я увидал кисет, Где в желтом поле был рисунок синий, Подобный льву, вздыбившему хребет. 61 А на другом из мучимых пустыней Мешочек был, подобно крови, ал И с белою, как молоко, гусыней. 64 Один, чей белый кошелек являл Свинью, чреватую и голубую, Сказал мне: «Ты зачем сюда попал? 67 Ступай себе, раз носишь плоть живую, И знай, что Витальяно[330], мой земляк, Придет и сядет от меня ошую. 70 Меж этих флорентийцев я чужак, Я падуанец; мне их голос грубый Все уши протрубил: «Где наш вожак, 73 С тремя козлами, наш герой сугубый?»[331] Он высунул язык и скорчил рот, Как бык, когда облизывает губы. 76 И я, боясь, не сердится ли тот, Кто мне велел недолго оставаться, Покинул истомившийся народ. 79 Тем временем мой вождь успел взобраться Дурному зверю на спину – и мне Промолвил так: «Теперь пора мужаться! 82 Вот, как отсюда сходят к глубине. Сядь спереди, я буду сзади, рядом, Чтоб хвост его безвреден был вполне». 85 Как человек, уже объятый хладом Пред лихорадкой, с синевой в ногтях, Дрожит, чуть только тень завидит взглядом, – 88 Так я смутился при его словах; Но как слуга пред смелым господином, Стыдом язвимый, я откинул страх. 91 Я поместился на хребте зверином; Хотел промолвить: «Обними меня», – Но голоса я не был властелином. 94 Тот, кто и прежде был моя броня, И без того поняв мою тревогу, Меня руками обхватил, храня, 97 И молвил: «Герион, теперь в дорогу! Смотри, о новой ноше не забудь: Ровней кружи и падай понемногу». 100 Как лодка с места трогается в путь Вперед кормой, так он оттуда снялся И, ощутив простор, направил грудь 103 Туда, где хвост дотоле извивался; Потом как угорь выпрямился он И, загребая лапами, помчался. 106 Не больше был испуган Фаэтон, Бросая вожжи, коими задетый Небесный свод доныне опален,[332] 109 Или Икар, почуя воск согретый, От перьев обнажавший рамена, И слыша зов отца: «О сын мой, где ты?»[333] – 112 Чем я, увидев, что кругом одна Пустая бездна воздуха чернеет И только зверя высится спина. 115 А он все вглубь и вглубь неспешно реет, Но это мне лишь потому вдогад, Что ветер мне в лицо и снизу веет. 118 Уже я справа слышал водопад, Грохочущий под нами, и пугливо Склонил над бездной голову и взгляд; 121 Но пуще оробел, внизу обрыва Увидев свет огней и слыша крик, И отшатнулся, ежась боязливо. 124 И только тут я в первый раз постиг Спуск и круженье, видя муку злую Со всех сторон все ближе каждый миг. 127 Как сокол, мощь утратив боевую, И птицу и вабило[334] тщетно ждав, – Так что сокольник скажет: «Эх, впустую!» 130 На место взлета клонится, устав, И, опоясав сто кругов сначала, Вдали от всех садится, осерчав, – 133 Так Герион осел на дно провала, Там, где крутая кверху шла скала, И, чуть с него обуза наша спала, 136 Взмыл и исчез, как с тетивы стрела. ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ 1 Есть место в преисподней. Злые Щели, Сплошь каменное, цвета чугуна, Как кручи, что вокруг отяготели. 4 Посереди зияет глубина Широкого и темного колодца, О коем дальше расскажу сполна. 7 А тот уступ, который остается, Кольцом меж бездной и скалой лежит, И десять впадин в нем распознается. 10 Каков у местности бывает вид, Где замок, для осады укрепленный, Снаружи стен рядами рвов обвит, 13 Таков и здесь был дол изборожденный; И как от самых крепостных ворот Ведут мосты на берег отдаленный, 16 Так от подножья каменных высот Шли гребни скал чрез рвы и перекаты, Чтоб у колодца оборвать свой ход. 19 Здесь опустился Герион хвостатый И сбросил нас обоих со спины;[335] И влево путь направил мой вожатый 22 Я шел, и справа были мне видны Уже другая скорбь и казнь другая, Какие в первом рву заключены. 25 Там в два ряда текла толпа нагая; Ближайший ряд к нам направлял стопы, А дальний – с нами, но крупней шагая.[336] 28 Так римляне, чтобы наплыв толпы, В год юбилея, не привел к затору, Разгородили мост на две тропы, 31 И по одной народ идет к собору, Взгляд обращая к замковой стене, А по другой идут навстречу, в гору.[337] 34 То здесь, то там в кремнистой глубине Виднелся бес рогатый, взмахом плети Жестоко бивший грешных по спине. 37 О, как проворно им удары эти Вздымали пятки! Ни один не ждал, Пока второй обрушится иль третий. 40 Пока я шел вперед, мой взор упал На одного; и я воскликнул: «Гдето Его лицом я взгляд уже питал». 43 Я стал, стараясь распознать, кто это, И добрый вождь, остановясь со мной, Нагнать его мне не чинил запрета. 46 Бичуемый, скрывая облик свой, Склонил чело; но труд пропал впустую; Я молвил: «Ты, с поникшей головой, 49 Когда наружность носишь не чужую, – Венедико Каччанемико[338]. Чем Ты заслужил приправу столь крутую?» 52 И он: «Я не ответил бы совсем, Но мне твоя прямая речь велела Припомнить мир старинный. Я был тем, 55 Кто постарался, чтоб Гизолабелла Послушалась маркиза,[339] хоть и врут Различное насчет срамного дела. 58 Не первый я болонец плачу тут; Их понабилась здесь такая кипа, Что столько языков не наберут 61 Меж Савеной и Рено молвить sipa;[340] Немудрено: мы с алчностью своей До смертного не расстаемся хрипа». 64 Тут некий бес, среди его речей, Стегнул его хлыстом и огрызнулся: «Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!» 67 Я к моему вожатому вернулся; Пройдя немного, мы пришли туда, Где длинный гребень от скалы тянулся. 70 Мы на него взобрались без труда И с этим истязуемым народом, Направо взяв, расстались навсегда. 73 И там, где гребень нависает сводом, Чтоб дать толпе бичуемой пройти, – Мой вождь сказал: «Постой – и мимоходом 76 Свои глаза на этих обрати, Которых ты еще не видел лица, Пока им было с нами по пути». 79 Под древний мост спешила вереница Второго ряда, двигаясь на нас, Стегаемая, как и та станица. 82 И вождь, не ждав вопроса этот раз, Сказал: «Взгляни вот на того, большого: Ему и боль не увлажняет глаз. 85 Как полон он величества былого! То мудрый и отважный властелин, Ясон, руна стяжатель золотого. 88 Приплыв на Лемнос средь морских пучин, Где женщины, отринув все, что свято, Предали смерти всех своих мужчин, 91 Он обманул, украсив речь богато, Младую Гипсипилу, в свой черед Товарок обманувшую когдато. 94 Ее он бросил там понесшей плод; За это он так и бичуем злобно, И также за Медею казнь несет.[341] 97 С ним те, кто обманул ему подобно; Про первый ров и тех, кто стиснут в нем, Нет нужды ведать более подробно». 100 Достигнув места, где тропа крестом Пересекает грань второго вала, Чтоб дальше снова выгнуться мостом, 103 Мы слышали, как в ближнем рву визжала И рылом хрюкала толпа людей И там себя ладонями хлестала. 106 Откосы покрывал тягучий клей От снизу подымавшегося чада, Несносного для глаз и для ноздрей. 109 Дно скрыто глубоко внизу, и надо, Дабы увидеть, что такое там, Взойти на мост, где есть простор для взгляда. 112 Туда взошли мы, и моим глазам Предстали толпы влипших в кал зловонный,[342] Как будто взятый из отхожих ям. 115 Там был один, так густо отягченный Дерьмом, что вряд ли кто бы отгадал, Мирянин это или постриженный. 118 Он крикнул мне: «Ты что облюбовал Меня из всех, кто вязнет в этой прели?» И я в ответ: «Ведь я тебя встречал, 121 И кудри у тебя тогда блестели; Я и смотрю, что тут невдалеке Погряз Алессио Интерминелли[343]». 124 И он, себя темяша по башке: «Сюда попал я изза льстивой речи, Которую носил на языке». 127 Потом мой вождь: «Нагни немного плечи, – Промолвил мне, – и наклонись вперед, И ты увидишь: тут вот, недалече 130 Себя ногтями грязными скребет Косматая и гнусная паскуда И то присядет, то опять вскокнет. 133 Фаида[344] эта, жившая средь блуда, Сказала както на вопрос дружка: «Ты мной довольна?» – «Нет, ты просто чудо!» 136 Но мы наш взгляд насытили пока». ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 1 О Симонволхв[345], о присных сонм злосчастный, Вы, что святыню божию, добра Невесту чистую, в алчбе ужасной 4 Растлили ради злата и сребра, Теперь о вас, казнимых в третьей щели, Звенеть трубе назначена пора! 7 Уже над новым рвом мы одолели Горбатый мост и прямо с высоты На середину впадины смотрели. 10 О Высший Разум, как искусен ты Горе, и долу, и в жерле проклятом, И сколько показуешь правоты! 13 Повсюду, и вдоль русла, и по скатам, Я увидал неисчислимый ряд Округлых скважин в камне сероватом. 16 Они совсем такие же на взгляд, Как те, в моем прекрасном СанДжованни[346], Где таинство крещения творят.[347] 19 Я, отрока спасая от страданий, В недавний год одну из них разбил: И вот печать, в защиту от шептаний![348] 22 Из каждой ямы грешник шевелил Торчащими по голени ногами, А туловищем в камень уходил. 25 У всех огонь змеился над ступнями; Все так брыкались, что крепчайший жгут Порвался бы, не совладав с толчками. 28 Как если нечто маслистое жгут И лишь поверхность пламенем задета, – Так он от пят к ногтям скользил и тут. 31 «Учитель, – молвил я, – скажи, кто это, Что корчится всех больше и оброс Огнем такого пурпурного цвета?»[349] 34 И он мне: «Хочешь, чтоб тебя я снес Вниз, той грядой, которая положе? Он сам тебе ответит на вопрос». 37 И я: «Что хочешь ты, мне мило тоже; Ты знаешь все, хотя бы я молчал; Ты – господин, чья власть мне всех дороже». 40 Тогда мы вышли на четвертый вал И, влево взяв, спустились в крутоскатый И дырами зияющий провал. 43 Меня не раньше отстранил вожатый От ребр своих, чем подойдя к тому, Кто так ногами плакал, в яме сжатый. 46 «Кто б ни был ты, поверженный во тьму Вниз головой и вкопанный, как свая, Ответь, коль можешь», – молвил я ему. 49 Так духовник стоит, исповедая Казнимого, который вновь зовет Изпод земли, кончину отдаляя.[350] 52 «Как, Бонифаций[351], – отозвался тот, – Ты здесь уже, ты здесь уже так рано? На много лет, однако, список[352] врет. 55 Иль ты устал от роскоши и сана, Изза которых лучшую средь жен,[353] На муку ей, добыл стезей обмана?»[354] 58 Я был как тот, кто словно пристыжен, Когда ему немедля возразили, А он не понял и стоит, смущен. 61 «Скажи ему, – промолвил мне Вергилий: – «Нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь». И я ответил так, как мне внушили. 64 Тут грешника заколотила дрожь, И вздох его и скорбный стон раздался: «Тогда зачем же ты меня зовешь? 67 Когда, чтобы услышать, как я звался, Ты одолеть решился этот скат, Знай: я великой ризой облекался. 70 Воистину медведицей зачат, Радея медвежатам, я так жадно Копил добро, что сам в кошель зажат.[355] 73 Там, подо мной, набилось их изрядно, Церковных торгашей, моих предтеч, Расселинами стиснутых нещадно. 76 И мне придется в глубине залечь, Сменившись тем, кого я по догадке Сейчас назвал, ведя с тобою речь. 79 Но я здесь дольше обжигаю пятки, И срок ему торчать вот так стремглав, Сравнительно со мной, назначен краткий; 82 Затем что вслед, всех в скверне обогнав, Придет с заката пастырь без закона, И, нас покрыв, он будет только прав.[356] 85 Как, в Маккавейских книгах, Иасона Лелеял царь, так и к нему щедра Французская окажется корона».[357] 88 Хоть речь моя едва ль была мудра, Но я слова привел к такому строю: «Скажи: каких сокровищ от Петра 91 Ждал наш господь, прельщен ли был казною, Когда ключи во власть ему вверял? Он молвил лишь одно: «Иди за мною». 94 Петру и прочим платы не вручал Матвей, когда то место опустело, Которое отпавший потерял.[358] 97 Торчи же здесь; ты пострадал за дело; И крепче деньги грешные храни, С которыми на Карла шел так смело.[359] 100 И если бы я сердцем искони, И даже здесь, не чтил ключей верховных, Тебе врученных в радостные дни, 103 Я бы в речах излился громословных; Вы алчностью растлили христиан, Топча благих и вознося греховных. 106 Вас, пастырей, провидел Иоанн[360] В той, что воссела на водах со славой И деет блуд с царями многих стран; 109 В той, что на свет родилась семиглавой, Десятирогой и хранила нас, Пока ее супруг был жизни правой.[361] 112 Сребро и злато – ныне бог для вас; И даже те, кто молится кумиру, Чтят одного, вы чтите сто зараз. 115 О Константин, каким злосчастьем миру Не к истине приход твой был чреват, А этот дар твой пастырю и клиру!»[362] 118 Пока я пел ему на этот лад, Он, совестью иль гневом уязвленный, Не унимал лягающихся пят. 121 А вождь глядел с улыбкой благосклонной, Как бы довольный тем, что так правдив Звук этой речи, мной произнесенной. 124 Обеими руками подхватив, Меня к груди прижал он и початым Уже путем вернулся на обрыв; 127 Не утомленный бременем подъятым, На самую дугу меня он взнес, Четвертый вал смыкающую с пятым, 130 И бережно поставил на утес, Тем бережней, что дикая стремнина Была бы трудной тропкой и для коз; 133 Здесь новая открылась мне ложбина. ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ 1 О новой муке повествую ныне В двадцатой песни первой из канцон,[363] Которая о гибнущих в пучине.[364] 4 Уже смотреть я был расположен В провал, раскрытый предо мной впервые, Который скорбным плачем орошен; 7 И видел в круглом рву толпы немые,[365] Свершавшие в слезах неспешный путь, Как в этом мире водят литании[366]. 10 Когда я взору дал по ним скользнуть, То каждый оказался странно скручен В том месте, где к лицу подходит грудь; 13 Челом к спине повернут и беззвучен, Он, пятясь задом, направлял свой шаг И видеть прямо был навек отучен. 16 Возможно, что комунибудь столбняк, Как этим, и сводил все тело разом, – Не знаю, но навряд ли это так. 19 Читатель, – и господь моим рассказом Тебе урок да преподаст благой, – Помысли, мог ли я невлажным глазом 22 Взирать вблизи на образ наш земной, Так свернутый, что плач очей печальный Меж ягодиц струился бороздой. 25 Я плакал, опершись на выступ скальный. «Ужель твое безумье таково? – Промолвил мне мой спутник достохвальный. 28 Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво.[367] Не те ли всех тяжеле виноваты, Кто ропщет, если судит божество? 31 Взгляни, взгляни, вот он, землею взятый, Пожранный ею на глазах фивян, Когда они воскликнули: «Куда ты, 34 Амфиарай? Что бросил ратный стан?», А он все вглубь свергался без оглядки, Пока Миносом не был обуздан. 37 Ты видишь – в грудь он превратил лопатки: За то, что взором слишком вдаль проник, Он смотрит взад, стремясь туда, где пятки.[368] 40 А вот Тиресий, изменивший лик, Когда, в жену из мужа превращенный, Всем естеством преобразился вмиг; 43 И лишь потом, змеиный клуб сплетенный Ударив вновь, он стал таким, как был, В мужские перья[369] снова облаченный.[370] 46 А следом Арунс надвигает тыл; Там, где над Луни громоздятся горы И где каррарец пажити взрыхлил, 49 Он жил в пещере мраморной[371] и взоры Свободно и в ночные небеса, И на морские устремлял просторы.[372] 52 А та, чья гривой падает коса, Покров грудям незримым образуя, Как прочие незримы волоса, 55 Была Манто[373]; из края в край кочуя, Она пришла в родные мне места;[374] И вот об этом рассказать хочу я. 58 Когда она осталась сирота И принял рабство Вакхов град[375] злосчастный, Она скиталась долгие лета. 61 Там, наверху, в Италии прекрасной, У гор, замкнувших Манью рубежом Вблизи Тиралли, спит Бенако[376] ясный. 64 Ключи, которых сотни мы начтем Меж Валькам́никой и Гардой, склоны Пеннинских Альп омыв, стихают в нем.[377] 67 Там место есть, где пастыри Вероны, И Брешьи, и Тридента, путь свершив, Благословить могли бы люд крещеный.[378] 70 Оплот Пескьеры, мощен и красив, Стоит, грозя бергамцам и брешьянам, Там, где низиной окружен залив.[379] 73 Все то, что в лоне уместить песчаном Не мог Бенако, – устремясь сюда, Течет рекой по травяным полянам. 76 Начав бежать из озера, вода Зовется Минчо, чтобы у Говерно В потоке По исчезнуть навсегда.[380] 79 Встречая падь, на полпути примерно, Она стоит, разлившись в топкий пруд, А летом чахнет, но и губит верно.[381] 82 Безжалостная дева, идя тут, Среди болота сушу присмотрела, Нагой и невозделанный приют. 85 И здесь она, чуждаясь всех, осела Со слугами, гаданьям предана, И здесь рассталась с оболочкой тела. 88 Рассеянные кругом племена Потом сюда стянулись, ибо знали, Что эта суша заводью сильна. 91 Над мертвой костью город основали И, по избравшей древле этот дол, Без волхвований Мантуей назвали. 94 Он многолюдней прежде был и цвел, Пока недальновидных Касалоди Лукавый Пинамонте не провел.[382] 97 И если ты услышал бы в народе Не эту быль о родине моей, Знай – это ложь и с истиной в разброде». 100 И я: «Учитель, повестью твоей Я убежден и верю нерушимо. Мне хладный уголь – речь других людей. 103 Но молви мне: среди идущих мимо Есть ктонибудь, кто взор бы твой привлек? Во мне лишь этим сердце одержимо». 106 И он: «Вот тот, чья борода от щек Вниз по спине легла на смуглом теле, – В те дни, когда у греков ты бы мог 109 Найти мужчину только в колыбели Был вещуном; в Авлиде сечь канат Он и Калхант совместно повелели. 112 То Эврипил;[383] и про него звучат Стихи моей трагедии высокой.[384] Тебе ль не знать? Ты помнишь всю подряд. 115 А следующий, этот худобокой, Звался Микеле Скотто[385] и большим В волшебных плутнях почитался докой. 118 А вот Бонатти[386]; вот Азденте с ним; Жалеет он о коже и о шиле, Да опоздал с раскаяньем своим.[387] 121 Вот грешницы, которые забыли Иглу, челнок и прялку, ворожа; Варили травы, куколок лепили.[388] 124 Но нам пора; коснулся рубежа Двух полусфер и за Севильей в волны Нисходит Каин, хворост свой держа,[389] 127 А месяц был уж прошлой ночью полный: Ты помнишь сам, как в глубине лесной Был благотворен свет его безмолвный».[390] 130 Так, на ходу, он говорил со мной. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Так с моста на мост, говоря немало Стороннего Комедии моей, Мы перешли, чтоб с кручи перевала 4 Увидеть новый росщеп Злых Щелей И новые напрасные печали; Он вскрылся, чуден чернотой своей. 7 И как в венецианском арсенале[391] Кипит зимой тягучая смола, Чтоб мазать струги, те, что обветшали, 10 И все справляют зимние дела: Тот ладит весла, этот забивает Щель в кузове, которая текла; 13 Кто чинит нос, а кто корму клепает; Кто трудится, чтоб сделать новый струг; Кто снасти вьет, кто паруса платает, – 16 Так, силой не огня, но божьих рук, Кипела подо мной смола густая, На скосы налипавшая вокруг. 19 Я видел лишь ее, что в ней – не зная, Когда она вздымала пузыри, То пучась вся, то плотно оседая. 22 Я силился увидеть, что внутри, Как вдруг мой вождь меня рукой хранящей Привлек к себе, сказав: «Смотри, смотри!» 25 Оборотясь, как тот, кто от грозящей Ему беды отвесть не может глаз, И обессилен робостью томящей, 28 И убегает и глядит зараз, – Я увидал, как некий дьявол черный Вверх по крутой тропе бежит на нас. 31 О, что за облик он имел злотворный! И до чего казался мне жесток, Раскинув крылья и в ступнях проворный! 34 Он грешника накинул, как мешок, На острое плечо и мчал на скалы, Держа его за сухожилья ног. 37 Взбежав на мост, сказал: «Эй, Загребалы[392], Святая Дзита[393] шлет вам старшину! Кунайте! Выбор в городе немалый, 40 Я к ним еще разочек загляну. Там лишь Бонтуро[394] не живет на взятки, Там «нет» на «да» меняют за казну». 43 Швырнув его, помчался без оглядки Вниз со скалы; и пес таким рывком Не кинется вцепиться вору в пятки. 46 Тот канул, всплыл с измазанным лицом, Но бесы закричали изпод моста: «Святого Лика[395] мы не признаем! 49 И тут не Серкьо[396], плавают не просто! Когда не хочешь нашего крюка, Ныряй назад в смолу». И зубьев до ста 52 Вонзились тут же грешнику в бока. «Пляши, но не показывай макушки; А можешь, так плутуй исподтишка». 55 Так повара следят, чтобы их служки Топили мясо вилками в котле И не давали плавать по верхушке. 58 Учитель молвил: «Чтобы на скале Остаться незамеченным, укройся За выступом и припади к земле. 61 А для меня опасности не бойся: Я здесь не первый раз, и я привык К подобным стычкам, ты не беспокойся». 64 Покинул мост мой добрый проводник; Когда он шел шестой надбрежной кручей, Он должен был являть спокойный лик. 67 С такой же точно яростью кипучей, Как псы бросаются на бедняка, Который просит всюду, где есть случай, 70 Они рванулись прочь изпод мостка И стали наступать, грозя крюками; Но он вскричал: «Не будьте злы пока 73 И подождите рвать меня зубцами! С одним из вас я речь вести хочу, А там, как быть со мной, решайте сами». 76 Все закричали: «Выйти Хвостачу!» Один пошел, а прочие глядели; Он шел, ворча: «Чего я хлопочу?» 79 Мой вождь сказал: «Скажи, Хвостач, ужели, Нетронут вашей злобой, я бы мог Прийти сюда, когда б не так хотели 82 Господня воля и содружный рок? Посторонись; мне небо указало Пройти с другим сквозь этот дикий лог». 85 Тогда гордыня в бесе так упала, Что свой багор он уронил к ногам И молвил к тем: «С ним драться не пристало». 88 И вождь ко мне: «О ты, который там, Среди камней, укрылся боязливо, Сойди без страха по моим следам». 91 К нему я шаг направил торопливо, А дьяволы подвинулись вперед, И я боялся, что их слово лживо. 94 Так, видел я, боялся ратный взвод, По уговору выйдя из Капроны[397] И недругов увидев грозный счет. 97 И я всем телом, ждущим обороны, Прильнул к вождю и пристально следил, Как злобен облик их и взгляд каленый. 100 Нагнув багор, бес бесу говорил: «Что, если бы его пощупать с тыла?» Тот отвечал: «Вот, вот, да так, чтоб взвыл!» 103 Но демон, тот, который вышел было, Чтоб разговор с вождем моим вести, Его окликнул: «Тише, Тормошило!» 106 Потом сказал нам: «Дальше не пройти Вам этим гребнем; и пытать бесплодно: Шестой обрушен мост, и нет пути. 109 Чтоб выйти все же, если вам угодно, Ступайте этим валом, там, где след, И ближним гребнем выйдете свободно. 112 Двенадцать сот и шестьдесят шесть лет Вчера, на пять часов поздней, успело Протечь с тех пор, как здесь дороги нет.[398] 115 У наших в тех местах как раз есть дело – Взглянуть, не прохлаждается ль народ; Не бойтесь их, идите с ними смело». 118 «Эй, Косокрыл, и ты, Старик, в поход! – Он начал говорить. – И ты, Собака; А Борода десятником пойдет. 121 В придачу к ним Дракон и Забияка, Клыкастый Боров и Собачий Зуд, Да Рыжик лютый, да еще Кривляка. 124 Вы осмотрите весь кипящий пруд; А эти до ближайшего отрога, Который цел, пусть здравыми дойдут». 127 «Что вижу я, учитель? Ради бога, Не нужно спутников, пойдем одни, – Сказал я. – Ты же знаешь, где дорога. 130 Когда ты зорок, как всегда, взгляни: Не видишь разве их кивков ужасных И как зубами лязгают они?» 133 «Не надо страхов и тревог напрасных; Пусть лязгают себе, – мой вождь сказал, – Чтоб напугать варимых там несчастных». 136 Тут бесы двинулись на левый вал, Но каждый, в тайный знак, главе отряда Сперва язык сквозь зубы показал, 139 И тот трубу изобразил из зада. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 Я конных ратей видывал движенья, В час грозных сеч, в походах, на смотрах, А то и в бегстве, в поисках спасенья; 4 Я видывал наезды, вам на страх, О аретинцы[399], видел натиск бранный, Турнирный бой на копьях и мечах, – 7 Под трубный звук, набатный, барабанный, Или по знаку с башен, как когда, На итальянский лад и чужестранный; 10 Но не видал, чтобы чудней дуда Звучала конным, пешим иль ветрилам, Когда маячит берег иль звезда.[400] 13 Мы шли с десятком бесов; вот уж в милом Сообществе! Но в церкви, говорят, Почет святым, а в кабачке – кутилам. 16 Лишь на смолу я обращал мой взгляд, Чтоб видеть свойства этой котловины И что за люди там внутри горят. 19 Как мореходам знак дают дельфины,[401] Чтоб те успели уберечь свой струг, И над волнами изгибают спины, – 22 Так иногда, для обегченья мук, Иной всплывал, лопатки выставляя, И, молнии быстрей, скрывался вдруг. 25 И как во рву, расположась вдоль края, Торчат лягушки рыльцем из воды, Брюшко и лапки ниже укрывая, – 28 Так грешники торчали в две гряды, Но, увидав, что Борода крадется, Ныряли в кипь, спасаясь от беды. 31 Один – как вспомню, сердце ужаснется – Заждался; так одна лягушка, всплыв, Нырнет назад, другая остается. 34 Собачий Зуд, всех ближе, зацепив Багром за космы, слипшиеся туго, Втащил его, как выдру, на обрыв. 37 Я помнил прозвища всего их круга: С тех пор, как их избрали, я в пути Следил, как бесы кликали друг друга. 40 «Эй, Рыжик, забирай его, когти, – Наперебой проклятые кричали, – Так, чтоб ему и шкуры не найти!» 43 И я сказал: «Учитель мой, нельзя ли Узнать, кто этот жалкий лиходей, Которого враги к рукам прибрали?» 46 Мой вождь к нему подвинулся плотней, И тот сказал, в ответ на обращенье: «Я был наваррец.[402] Матерью моей 49 Я отдан был вельможе в услуженье, Затем что мой отец был дрянь и голь, Себя сгубивший и свое именье. 52 Меня приблизил добрый мой король, Тебальд[403]; я взятки брал, достигнув власти, И вот плачусь, окунут в эту смоль». 55 Тут Боров, у которого из пасти Торчали бивни, как у кабана, Одним из них стал рвать его на части. 58 Увидели коты, что мышь вкусна; Но Борода, обвив его руками, Сказал: «Оставьте, помощь не нужна». 61 Потом, к вождю оборотясь глазами: «Ты, если хочешь, побеседуй с ним, Пока его не разнесли баграми». 64 И вождь: «Скажи, из тех, кто здесь казним, Не знаешь ли какихнибудь латинян[404], В смоле?» И тот: «Сейчас я был с одним 67 Из мест, откуда путь до них недлинен.[405] Мне крюк и коготь был бы нипочем, Будь я, как он, опять в смолу заклинен». 70 Тут Забияка: «Больно долго ждем!» – Сказал, рванул ему багром предплечье И выхватил клок мяса целиком. 73 Тогда Дракон решил нанесть увечье Пониже в ноги; но грозою глаз Десятник их пресек противоречье. 76 Они смирились и на этот раз, А тот смотрел, как плоть его разрыта; И спутник мой спросил его тотчас: 79 «Кто это был, кому нашлась защита, Когда, на горе, ты остался тут?» И он ответил: «Это брат Гомита, 82 Что из Галлуры, всякой лжи сосуд, Схватив злодеев своего владыки, Он сделал так, что те хвалу поют. 85 Всех отпустил за деньги, скрыв улики, Как говорит; корысти не тая, Мздоимец был не малый, но великий.[406] 88 Он и Микеле Цанке здесь друзья; Тот – логодорец;[407] вечно каждый хвалит Былые дни сардинского житья. 91 Ой, посмотрите, как он зубы скалит! Я продолжал бы, да того гляди – Он мне крюком всю спину измочалит». 94 Начальник, увидав, что впереди Стал Забияка, изготовясь к бою, Сказал: «Ты, злая птица, отойди!» 97 «Угодно вам увидеть пред собою, – Так оробевший речь повел опять, – Тосканцев и ломбардцев, – я устрою. 100 Но Загребалам дальше нужно стать, Чтоб нашим знать, что их никто не ранит; А я, один тут сидя, вам достать 103 Хоть семерых берусь; их сразу взманит, Чуть свистну, – как у нас заведено, Лишь только ктонибудь наружу глянет». 106 Собака вскинул морду и, чудно Мотая головой, сказал: «Вот штуку Ловкач затеял, чтоб нырнуть на дно!» 109 И тот, набивший на коварствах руку, Ему ответил: «Подлинно ловкач, Когда своим же отягчаю муку!» 112 Тут Косокрыл, который был горяч, Сказал, не в лад другим: «Скакнешь в пучину, – Тебе вдогонку я пущусь не вскачь, 115 А просто крылья над смолой раскину. Мы спустимся с бугра и станем там; Посмотрим, нашу ль проведешь дружину!» 118 Внемли, читатель, новым чудесам: В ту сторону все повернули шеи, И первым тот, кто больше был упрям.[408] 121 Наваррец выбрал время, половчее Уперся в землю пятками и вмиг Сигнул и ускользнул от их затеи. 124 И тотчас в каждом горький стыд возник; Всех больше злился главный заправило;[409] Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!» 127 Но понапрасну: крыльям трудно было Поспеть за страхом; тот ко дну пошел, И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло. 130 Так селезень ныряет наукол, Чтобы в воде от сокола укрыться, А тот летит обратно, хмур и зол. 133 Старик, все так же продолжая злиться, Летел вослед, желая всей душой, Чтоб плут исчез и повод был схватиться. 136 Едва мздоимец скрылся с головой, Он на собрата тотчас двинул ногти, И дьяволы сцепились над смолой. 139 Но тот не хуже, чтоб нацелить когти, Был ястребперемыт, и их тела Вмиг очутились в раскаленном дегте. 142 Их сразу жгучесть пекла разняла; Но вызволиться было невозможно, Настолько прочно влипли их крыла. 145 Тут Борода, как все, томясь тревожно, Велел, чтоб четверо, забрав багры, Перелетели ров; все безотложно 148 И там и тут спустились на бугры; Они к увязшим протянули крючья, А те уже спеклись внутри коры; 151 И мы ушли в разгар их злополучья. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 Безмолвны, одиноки и без свиты, Мы шли путем, неведомым для нас, Друг другу вслед, как братья минориты.[410] 4 Недавний бой припомянув не раз, Я баснь Эзопа вспомнил поневоле, Про мышь и про лягушку старый сказ.[411] 7 «Сейчас» и «тотчас» сходствуют не боле, Чем тот и этот случай, если им Уделено вниманье в равной доле. 10 И так как мысль дает исток другим, Одно другим сменилось размышленье, И страх мой стал вдвойне неодолим. 13 Я думал так: «Им это посрамленье Пришло от нас; столь тяжкий претерпев Ущерб и срам, они затеют мщенье. 16 Когда на злобный нрав накручен гнев, Они на нас жесточе ополчатся, Чем пес на зайца разверзает зев». 19 Я чуял – волосы на мне дыбятся От жути, и, остановясь, затих; Потом сказал: «Они за нами мчатся; 22 Учитель, спрячь скорее нас двоих; Мне страшно Загребал; они предстали Во мне так ясно, что я слышу их». 25 «Будь я стеклом свинцовым,[412] я б едва ли, – Сказал он, – отразил твой внешний лик Быстрей, чем восприял твои печали. 28 Твой помысел в мои помысел проник, Ему лицом и поступью подобный, И я их свел к решенью в тот же миг. 31 И если справа склон горы удобный, Чтоб нам спуститься в следующий ров, То нас они настигнуть не способны». 34 Он не успел домолвить этих слов, Как я увидел: быстры и крылаты, Они уж близко и спешат на лов. 37 В единый миг меня схватил вожатый, Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом Увидя буйным пламенем объятый, 40 Хватает сына и бежит бегом, Рубашки не накинув, помышляя Не о себе, а лишь о нем одном, – 43 И тотчас вниз с обрывистого края Скользнул спиной на каменистый скат, Которым щель окаймлена шестая. 46 Так быстро воды стоком не спешат Вращать у дольной мельницы колеса, Когда струя уже вблизи лопат, 49 Как мой учитель, с высоты утеса, Как сына, не как друга, на руках Меня держа, стремился вдоль откоса. 52 Чуть он коснулся дна, те впопыхах Уже достигли выступа стремнины Как раз над нами; но прошел и страх, – 55 Затем что стражу пятой котловины Им промысел высокий отдает, Но прочь ступить не властен ни единый. 58 Внизу скалы повапленный народ[413] Кружил неспешным шагом, без надежды, В слезах, устало двигаясь вперед. 61 Все – в мантиях, и затеняет вежды Глубокий куколь, низок и давящ; Так шьют клунийским инокам[414] одежды. 64 Снаружи позолочен и слепящ, Внутри так грузен их убор свинцовый, Что был соломой Федериков плащ.[415] 67 О вековечно тяжкие покровы! Мы вновь свернули влево, как они, В их плач печальный вслушаться готовы. 70 Но те, устав под бременем брони, Брели так тихо, что с другим соседом Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни. 73 И я вождю: «Найди, быть может ведом Делами или именем иной; Взгляни, шагая, на идущих следом». 76 Один, признав тосканский говор мой, За нами крикнул: «Придержите ноги, Вы, что спешите так под этой тьмой! 79 Ты можешь у меня спросить подмоги». Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь; Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги». 82 По лицам двух я видел, что их грудь Исполнена стремления живого; Но им мешали груз и тесный путь. 85 Приблизясь и не говоря ни слова, Они смотрели долго, взгляд скосив; Потом спросили так один другого: 88 «Он, судя по работе горла, жив; А если оба мертвы, как же это Они блуждают, столу[416] совлачив?» 91 И мне: «Тосканец, здесь, среди совета Унылых лицемеров, на вопрос, Кто ты такой, не презирай ответа». 94 Я молвил: «Я родился и возрос В великом городе на ясном Арно, И это тело я и прежде нес. 97 А кто же вы, чью муку столь коварно Изобличает этот слезный град? И чем вы так казнимы лучезарно?» 100 Один ответил: «Желтый наш наряд Навис на нас таким свинцовым сводом, Что под напором гирь весы скрипят. 103 Мы гауденты[417], из Болоньи родом, Я – Каталано, Лодеринго – он; Мы были призваны твоим народом, 106 Как одиноких брали испокон, Чтоб мир хранить; как он хранился нами, Вокруг Гардинго видно с тех времен».[418] 109 Я начал: «Братья, вашими делами…» – Но смолк; мой глаз внезапно увидал Распятого в пыли тремя колами. 112 Он, увидав меня, затрепетал, Сквозь бороду бросая вздох стесненный. Брат Каталан на это мне сказал: 115 «Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный, Когдато речи фарисеям[419] вел, Что может всех спасти один казненный.[420] 118 Он брошен поперек тропы и гол, Как видишь сам, и чувствует все время, Насколько каждый, кто идет, тяжел. 121 И тесть его[421] здесь терпит то же бремя, И весь собор,[422] оставивший в удел Еврейскому народу злое семя». 124 И видел я, как чудно поглядел Вергилий на того, кто так ничтожно, В изгнанье вечном, распятый, коснел. 127 Потом он молвил брату: «Если можно, То не укажете ли нам пути Отсюда вправо, чтобы бестревожно 130 Из здешних мест мы с ним могли уйти И черных ангелов не понуждая Нас из ложбины этой унести». 133 И брат: «Тут есть вблизи гряда большая; Она идет от круговой стены, Все яростные рвы пересекая, 136 Но рухнула над этим; вы должны Подняться по обвалу; склон обрыва И дно лощины сплошь завалены». 139 Вождь голову понурил молчаливо. «Тот, кто крюком, – сказал он наконец, – Хватает грешных, говорил нам лживо». 142 «Я не один в Болонье образец Слыхал того, как бес ко злу привержен, – Промолвил брат. – Он всякой лжи отец». 145 Затем мой вождь пошел, слегка рассержен, Широкой поступью и хмуря лоб; И я от тех, кто бременем удержан, 148 Направился по следу милых стоп. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Покуда год не вышел из малюток И солнцу кудри греет Водолей[423], А ночь все ближе к половине суток 4 И чертит иней посреди полей Подобье своего седого брата,[424] Хоть каждый раз его перо хилей, – 7 Крестьянин, чья кормушка небогата, Встает и видит – побелел весь луг, И бьет себя пониже перехвата; 10 Уходит в дом, ворчит, снует вокруг, Не зная, бедный, что тут делать надо; А выйдет вновь – и ободрится вдруг, 13 Увидев мир сменившим цвет наряда В короткий миг; берет свой посошок И гонит вон пастись овечье стадо. 16 Так вождь причиной был моих тревог, Когда казался смутен и несветел, И так же сразу боль мою отвлек: 19 Как только он упавший мост приметил, Он бросил мне все тот же ясный взгляд, Что у подножья горного[425] я встретил. 22 Он оглядел загроможденный скат, Подумал и, кладя конец заботам, Раскрыв объятья, взял меня в обхват. 25 И словно тот, кто трудится с расчетом, Как бы все время глядя пред собой, Так он, подняв меня единым взметом 28 На камень, намечал уже другой И говорил: «Теперь вот тот потрогай, Таков ли он, чтоб твердо стать ногой». 31 В плаще[426] бы не пройти такой дорогой; Едва и мы, с утеса на утес, Ползли наверх, он – легкий, я – с подмогой. 34 И если бы не то, что наш откос Был ниже прежнего, – как мой вожатый, Не знаю, я бы вряд ли перенес. 37 Но так как область Злых Щелей покатый К срединному жерлу дает наклон, То стены, меж которых рвы зажаты, 40 По высоте не равны с двух сторон. Мы наконец взошли на верх обвала, Где самый крайний камень прислонен. 43 Мне так дыханья в легких не хватало, Что дальше я не в силах был идти; Едва взойдя, я тут же сел устало. 46 «Теперь ты леность должен отмести, – Сказал учитель. – Лежа под периной Да сидя в мягком, славы не найти. 49 Кто без нее готов быть взят кончиной, Такой же в мире оставляет след, Как в ветре дым и пена над пучиной. 52 Встань! Победи томленье, нет побед, Запретных духу, если он не вянет, Как эта плоть, которой он одет! 55 Еще длиннее лестница предстанет;[427] Уйти от них – не в этом твой удел;[428] И если слышишь, пусть душа воспрянет». 58 Тогда я встал; я показать хотел, Что я дышу свободней, чем на деле, И молвил так: «Идем, я бодр и смел!» 61 Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле, Обрывистый, крутой, в обломках скал, Он был, чем тот, каким мы шли доселе. 64 Чтоб скрыть усталость, я не умолкал; Вдруг голос из расселины раздался, Который даже не как речь звучал. 67 Слов я понять не мог, хотя взобрался На горб моста, изогнутого там; Но говоривший как бы удалялся. 70 Я наклонился, но живым глазам Достигнуть дна мешала тьма густая; И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам 73 Сойти на вал, и станем возле края; Я слушаю, но смысла не пойму, И ничего не вижу, взор склоняя». 76 И он: «Мой отклик слову твоему – Свершить; когда желанье справедливо, То надо молча следовать ему». 79 Мы с моста вниз сошли неторопливо, Где он с восьмым смыкается кольцом, И тут весь ров открылся мне с обрыва. 82 И я внутри увидел страшный ком Змей, и так много разных было видно, Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем. 85 Ливийской степи было бы завидно: Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей Плодятся в ней, и якул, и ехидна, – 88 Там нет ни стольких гадов, ни лютей,[429] Хотя бы все владенья эфиопа И берег Чермных вод прибавить к ней. 91 Средь этого чудовищного скопа Нагой народ,[430] мечась, ни уголка Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа[431]. 94 Скрутив им руки за спиной, бока Хвостом и головой пронзали змеи, Чтоб спереди связать концы клубка. 97 Вдруг к одному, – он был нам всех виднее, – Метнулся змей и впился, как копье, В то место, где сращенье плеч и шеи. 100 Быстрей, чем I начертишь или О, Он[432] вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился, И тело, рухнув, утерял свое. 103 Когда он так упал и развалился, Прах вновь сомкнулся воедино сам И в прежнее обличье возвратился. 106 Так ведомо великим мудрецам, Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый, Когда подходит к пятистам годам. 109 Не травы – корм его, не сок плодовый, Но ладанные слезы и амом, А нард и мирра – смертные покровы.[433] 112 Как тот, кто падает, к земле влеком, Он сам не знает – демонскою силой Иль запруженьем, властным над умом, 115 И, встав, кругом обводит взгляд застылый, Еще в себя от муки не придя, И вздох, взирая, издает унылый, – 118 Таков был грешник, вставший погодя.[434] О божья мощь, сколь праведный ты мститель, Когда вот так сражаешь, не щадя! 121 Кто он такой, его спросил учитель. И тот: «Я из Тосканы в этот лог Недавно сверзился. Я был любитель 124 Жить поскотски, а полюдски не мог, Да мулом был и впрямь; я – Ванни Фуччи,[435] Зверь[436], из Пистойи, лучшей из берлог». 127 И я вождю: «Пусть подождет у кручи; Спроси, за что он спихнут в этот ров; Ведь он же был кровавый и кипучий».[437] 130 Тот, услыхав и отвечать готов, Свое лицо и дух ко мне направил И от дурного срама стал багров. 133 «Гораздо мне больнее, – он добавил, – Что ты меня в такой беде застал, Чем было в миг, когда я жизнь оставил. 136 Я исполняю то, что ты желал: Я так глубоко брошен в яму эту За то, что утварь в ризнице украл. 139 Тогда другой был привлечен к ответу. Но чтобы ты свиданию со мной Не радовался, если выйдешь к свету, 142 То слушай весть и шире слух открой: Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,[438] Потом Фьоренца обновит свой строй.[439] 145 Марс от долины Магры пар надвинет, Повитый мглою облачных пелен, И на поля Пиценские низринет, 148 И будет бой жесток и разъярен; Но он туман размечет своевольно, И каждый Белый будет сокрушен.[440] 151 Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»[441] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 1 По окончаньи речи, вскинув руки И выпятив два кукиша, злодей Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!» 4 С тех самых пор и стал я другом змей: Одна из них ему гортань обвила, Как будто говоря: «Молчи, не смей!», 7 Другая – руки, и кругом скрутила, Так туго затянув клубок узла, Что всякая из них исчезла сила. 10 Сгори, Пистойя, истребись дотла! Такой, как ты, существовать не надо! Ты свой же корень в скверне превзошла![442] 13 Мне ни в одном из темных кругов Ада Строптивей богу дух не представал, Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града.[443] 16 Он, не сказав ни слова, побежал; И видел я, как следом осерчало Скакал кентавр, крича: «Где, где бахвал?» 19 Так много змей в Маремме[444] не бывало, Сколькими круп его был оплетен Дотуда, где наш облик[445] брал начало. 22 А над затылком нависал дракон, Ему налегший на плечи, крылатый, Которым каждый встречный опален. 25 «Ты видишь Кака, – мне сказал вожатый. – Немало крови от него лилось, Где Авентин вознес крутые скаты. 28 Он с братьями теперь шагает врозь[446] За то, что обобрал не без оглядки Большое стадо, что вблизи паслось. 31 Но не дал Геркулес ему повадки И палицей отстукал до ста раз, Хоть тот был мертв на первом же десятке».[447] 34 Пока о проскакавшем шел рассказ, Три духа[448] собрались внизу; едва ли Заметил бы их ктонибудь из нас, 37 Вождь или я, но снизу закричали: «Вы кто?» Тогда наш разговор затих, И мы пришедших молча озирали. 40 Я их не знал; но тут один из них Спросил, и я по этому вопросу Догадываться мог об остальных: 43 «А что же Чанфа не пришел к утесу?» И я, чтоб вождь прислушался к нему, От подбородка палец поднял к носу. 46 Не диво, если слову моему, Читатель, ты поверишь неохотно: Мне, видевшему, чудно самому. 49 Едва я оглянул их мимолетно, Взметнулся шестиногий змей,[449] внаскок Облапил одного и стиснул плотно. 52 Зажав ему бока меж средних ног, Передними он в плечи уцепился И вгрызся духу в каждую из щек; 55 А задними за ляжки ухватился И между них ему просунул хвост, Который кверху вдоль спины извился. 58 Плющ, дереву опутав мощный рост, Не так его глушит, как зверь висячий Чужое тело обмотал взахлест. 61 И оба слиплись, точно воск горячий, И смешиваться начал цвет их тел, Окрашенных теперь уже иначе, 64 Как если бы бумажный лист горел И бурый цвет распространялся в зное, Еще не черен и уже не бел. 67 «Увы, Аньель, да что с тобой такое? – Кричали, глядя, остальные два. – Смотри, уже ты ни один, ни двое». 70 Меж тем единой стала голова, И смесь двух лиц явилась перед нами, Где прежние мерещились едва. 73 Четыре отрасли[450] – двумя руками, А бедра, ноги, и живот, и грудь Невиданными сделались частями. 76 Все бывшее в одну смесилось муть; И жуткий образ медленной походкой, Ничто и двое, продолжал свой путь. 79 Как ящерица под широкой плеткой Палящих дней, меняя тын, мелькнет Через дорогу молнией короткой, 82 Так, двум другим кидаясь на живот, Мелькнул змееныш лютый,[451] желточерный, Как шарик перца; и туда, где плод 85 Еще в утробе влагой жизнетворной Питается, ужалил одного;[452] Потом скользнул к его ногам, проворный. 88 Пронзенный не промолвил ничего И лишь зевнул, как бы от сна совея Иль словно лихорадило его. 91 Змей смотрит на него, а он – на змея; Тот – язвой, этот – ртом пускают дым, И дым смыкает гада и злодея. 94 Лукан да смолкнет там, где назван им Злосчастливый Сабелл или Насидий, И да внимает замыслам моим.[453] 97 Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий И этого – змеей, а ту – ручьем Измыслил обратить, – я не в обиде:[454] 100 Два естества, вот так, к лицу лицом, Друг в друга он не претворял телесно, Заставив их меняться веществом. 103 У этих превращенье шло совместно: Змееныш хвост, как вилку, расколол, А раненый стопы содвинул тесно. 106 Он голени и бедра плотно свел, И, самый след сращенья уничтожа, Они сомкнулись в нераздельный ствол. 109 У змея вилка делалась похожа На гибнущее там, и здесь мягка, А там корява становилась кожа. 112 Суставы рук вошли до кулака Под мышки, между тем как удлинялись Коротенькие лапки у зверька. 115 Две задние конечности смотались В тот член, который человек таит, А у бедняги два образовались. 118 Покамест дымом каждый был повит И новым цветом начал облекаться, Тут – облысев, там – волосом покрыт, – 121 Один успел упасть, другой – подняться, Но луч бесчестных глаз был так же прям, И в нем их морды начали меняться. 124 Стоявший растянул лицо к вискам, И то, что лишнего туда наплыло, Пошло от щек на вещество ушам. 127 А то, что не сползло назад, застыло Комком, откуда ноздри отросли И вздулись губы, сколько надо было. 130 Лежавший рыло вытянул в пыли, А уши, убывая еле зримо, Как рожки у улитки, внутрь ушли. 133 Язык, когдато росший неделимо И бойкий, треснул надвое, а тот, Двойной, стянулся, – и не стало дыма. 136 Душа в обличье гадины ползет И с шипом удаляется в лощину, А тот вдогонку, говоря, плюет. 139 Он, повернув к ней новенькую спину, Сказал другому[455]: «Пусть теперь ничком, Как я, Буозо оползет долину». 142 Так, видел я, менялась естеством Седьмая свалка;[456] и притом так странно, Что я, быть может, прегрешил пером. 145 Хотя уж видеть начали туманно Мои глаза и самый дух блуждал, Те не могли укрыться столь нежданно, 148 Чтоб я хромого Пуччо не узнал; Из всех троих он был один нетронут С тех пор, как подошел к подножью скал; 151 Другой был тот, по ком в Гавилле стонут.[457] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 1 Гордись, Фьоренца, долей величавой! Ты над землей и морем бьешь крылом, И самый Ад твоей наполнен славой! 4 Я пять таких в собранье воровском Нашел сограждан, что могу стыдиться, Да и тебе немного чести в том. 7 Но если нам под утро правда снится, Ты ощутишь в один из близких дней, К чему и Прато[458], как и все, стремится; 10 Поэтому – тем лучше, чем скорей; Раз быть должно, так пусть бы миновало! С теченьем лет мне будет тяжелей. 13 По выступам, которые сначала Вели нас вниз, поднялся спутник мой, И я, влекомый им, взошел устало; 16 И дальше, одинокою тропой Меж трещин и камней хребта крутого, Нога не шла, не подсобясь рукой. 19 Тогда страдал я и страдаю снова, Когда припомню то, что я видал;[459] И взнуздываю ум сильней былого, 22 Чтоб он без добрых правил не блуждал, И то, что мне дала звезда благая Иль ктото лучший, сам я не попрал. 25 Как селянин, на холме отдыхая, – Когда сокроет ненадолго взгляд Тот, кем страна озарена земная, 28 И комары, сменяя мух, кружат,[460] – Долину видит полной светляками Там, где он жнет, где режет виноград, 31 Так, видел я, вся искрилась огнями Восьмая глубь, как только с двух сторон Расщелина открылась перед нами. 34 И как, конями поднят в небосклон, На колеснице Илия вздымался, А тот, кто был медведями отмщен, 37 Ему вослед глазами устремлялся И только пламень различал едва, Который вверх, как облачко, взвивался,[461] – 40 Так движутся огни в гортани рва, И в каждом замкнут грешник утаенный, Хоть взор не замечает воровства. 43 С вершины моста я смотрел, склоненный, И, не держись я за одну из плит, Я бы упал, никем не понужденный; 46 И вождь, приметив мой усердный вид, Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян Внутри огня, которым он горит». 49 «Теперь, учитель, я вполне уверен, – Ответил я. – Уж я и сам постиг, И даже так спросить я был намерен: 52 Кто в том огне, что там вдали возник, Двойной вверху, как бы с костра подъятый, Где с братом был положен Полиник?»[462] 55 «В нем мучатся, – ответил мой вожатый, – Улисс и Диомед,[463] и так вдвоем, Как шли на гнев,[464] идут путем расплаты; 58 Казнятся этим стонущим огнем И ввод коня, разверзший стены града, Откуда римлян вышел славный дом,[465] 61 И то, что Дейдамия в сенях Ада Зовет Ахилла, мертвая, стеня,[466] И за Палладий[467] в нем дана награда». 64 «Когда есть речь у этого огня, Учитель, – я сказал, – тебя молю я, Сто раз тебя молю, утешь меня, 67 Дождись, покуда, меж других кочуя, Рогатый пламень к нам не подойдет: Смотри, как я склонен к нему, тоскуя». 70 «Такая просьба, – мне он в свой черед, – Всегда к свершенью сердце расположит; Но твой язык на время пусть замрет. 73 Спрошу их я; то, что тебя тревожит, И сам я понял; а на твой вопрос Они, как греки, промолчат, быть может». 76 Когда огонь пришел под наш утес И место и мгновенье подобало, Учитель мой, я слышал, произнес: 79 «О вы, чей пламень раздвояет жало! Когда почтил вас я в мой краткий час, Когда почтил вас много или мало, 82 Слагая в мире мой высокий сказ,[468] Постойте; вы поведать мне повинны, Где, заблудясь, погиб один из вас».[469] 85 С протяжным ропотом огонь старинный Качнул свой больший рог; так иногда Томится на ветру костер пустынный, 88 Туда клоня вершину и сюда, Как если б это был язык вещавший, Он издал голос и сказал: «Когда 91 Расстался я с Цирцеей[470], год скрывавшей Меня вблизи Гаэты,[471] где потом Пристал Эней, так этот край назвавший, – 94 Ни нежность к сыну, ни перед отцом Священный страх, ни долг любви спокойный Близ Пенелопы с радостным челом 97 Не возмогли смирить мой голод знойный Изведать мира дальний кругозор И все, чем дурны люди и достойны. 100 И я в морской отважился простор, На малом судне выйдя одиноко С моей дружиной, верной с давних пор. 103 Я видел оба берега, Моррокко,[472] Испанию, край сардов,[473] рубежи Всех островов, раскиданных широко. 106 Уже мы были древние мужи, Войдя в пролив, в том дальнем месте света, Где Геркулес воздвиг свои межи, 109 Чтобы пловец не преступал запрета;[474] Севилья справа отошла назад, Осталась слева, перед этим, Сетта[475]. 112 «О братья, – так сказал я, – на закат Пришедшие дорогой многотрудной! Тот малый срок, пока еще не спят 115 Земные чувства, их остаток скудный Отдайте постиженью новизны, Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный![476] 118 Подумайте о том, чьи вы сыны: Вы созданы не для животной доли, Но к доблести и к знанью рождены». 121 Товарищей так живо укололи Мои слова и ринули вперед, Что я и сам бы не сдержал их воли. 124 Кормой к рассвету, свой шальной полет На крыльях весел судно устремило, Все время влево уклоняя ход.[477] 127 Уже в ночи я видел все светила Другого остья, и морская грудь Склонившееся наше заслонила.[478] 130 Пять раз успел внизу луны блеснуть И столько ж раз погаснуть свет заемный,[479] С тех пор как мы пустились в дерзкий путь, 133 Когда гора[480], далекой грудой темной, Открылась нам; от века своего Я не видал еще такой огромной. 136 Сменилось плачем наше торжество: От новых стран поднялся вихрь, с налета Ударил в судно, повернул его 139 Три раза в быстрине водоворота; Корма взметнулась на четвертый раз, Нос канул книзу, как назначил Ктото,[481] 142 И море, хлынув, поглотило нас». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 1 Уже горел прямым и ровным светом Умолкший пламень, уходя во тьму, Отпущенный приветливым поэтом, – 4 Когда другой, возникший вслед ему,[482] Невнятным гулом, рвущимся из жала, Привлек наш взор к верховью своему. 7 Как сицилийский бык, взревев сначала От возгласов того, – и поделом, – Чье мастерство его образовало, 10 Ревел от голоса казнимых в нем И, хоть он был всего лишь медь литая, Страдающим казался существом,[483] 13 Так, в пламени пути не обретая, В его наречье, в нераздельный рык, Слова преображались, вылетая. 16 Когда же звук их наконец проник Сквозь острие, придав ему дрожанье, Которое им сообщал язык, 19 К нам донеслось: «К тебе мое воззванье, О ты, что, поломбардски говоря,[484] Сказал: «Иди, я утолил желанье!» 22 Мольбу, быть может, позднюю творя, Молю, помедли здесь, где мы страдаем: Смотри, я медлю пред тобой, горя! 25 Когда, простясь с латинским милым краем, Ты только что достиг слепого дна, Где я за грех содеянный терзаем, 28 Скажи: в Романье[485] – мир или война? От стен Урбино[486] и до горной сени, Вскормившей Тибр, лежит моя страна». 31 Я вслушивался, полон размышлений, Когда вожатый, тронув локоть мне, Промолвил так: «Ответь латинской тени». 34 Уже ответ мой был готов вполне, И я сказал, мгновенно речь построя: «О дух, сокрытый в этой глубине, 37 Твоя Романья[487] даже в дни покоя Без войн в сердцах тиранов не жила; Но явного сейчас не видно боя. 40 Равенна – все такая, как была: Орел Поленты в ней обосновался, До самой Червьи распластав крыла.[488] 43 Оплот, который долго защищался И где французов алый холм полег,[489] В зеленых лапах ныне оказался.[490] 46 Барбос Верруккьо[491] и его щенок, С Монтаньей[492] обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок. 49 В твердынях над Ламоне и Сантерно Владычит львенок белого герба, Друзей меняя дважды в год примерно;[493] 52 А та, где льется Савьо, той судьба Между горой и долом находиться, Живя меж волей и ярмом раба.[494] 55 Но кто же ты, прошу тебя открыться; Ведь я тебе охотно отвечал, – Пусть в мире память о тебе продлится!» 58 Сперва огонь немного помычал Посвоему, потом, качнув не сразу Колючую вершину, прозвучал: 61 «Когда б я знал, что моему рассказу Внимает тот, кто вновь увидит свет, То мой огонь не дрогнул бы ни разу. 64 Но так как в мир от нас возврата нет И я такого не слыхал примера, Я, не страшась позора, дам ответ. 67 Я меч сменил на пояс кордильера[495] И верил, что приемлю благодать; И так моя исполнилась бы вера, 70 Когда бы в грех не ввел меня опять Верховный пастырь[496] (злой ему судьбины!); Как это было, – я хочу сказать. 73 Пока я нес, в минувшие годины, Дар материнский мяса и костей, Обычай мой был лисий, а не львиный. 76 Я знал все виды потайных путей И ведал ухищренья всякой масти; Край света слышал звук моих затей. 79 Когда я понял, что достиг той части Моей стези, где мудрый человек, Убрав свой парус, сматывает снасти, 82 Все, что меня пленяло, я отсек; И, сокрушенно исповедь содеяв, – О горе мне! – я спасся бы навек. 85 Первоначальник новых фарисеев,[497] Воюя в тех местах, где Латеран,[498] Не против сарацин иль иудеев, 88 Затем что в битву шел на христиан, Не виноватых в том, что Акра взята, Не торговавших в землях басурман,[499] 91 Свой величавый сан и все, что свято, Презрел в себе, во мне – смиренный чин И вервь[500], тела сушившую когдато, 94 И, словно прокаженный Константин, Сильвестра из Сираттских недр призвавший,[501] Призвал меня, решив, что я один 97 Уйму надменный жар, его снедавший; Я слушал и не знал, что возразить: Как во хмелю казался вопрошавший. 100 «Не бойся, – продолжал он говорить, – Ты согрешенью будешь непричастен, Подав совет, как Пенестрино[502] срыть. 103 Рай запирать и отпирать я властен; Я два ключа недаром получил, К которым мой предместник[503] был бесстрастен». 106 Меня столь важный довод оттеснил Туда, где я молчать не смел бы доле, И я: «Отец, когда с меня ты смыл 109 Мой грех, творимый по твоей же воле, – Да будет твой посул длиннее дел, И возликуешь на святом престоле». 112 В мой смертный час Франциск[504] за мной слетел, Но некий черный херувим[505] вступился, Сказав: «Не тронь; я им давно владел. 115 Пора, чтоб он к моим рабам спустился; С тех пор как он коварный дал урок,[506] Ему я крепко в волосы вцепился; 118 Не каясь, он прощенным быть не мог, А каяться, грешить желая все же, Нельзя: в таком сужденье есть порок». 121 Как содрогнулся я, великий боже, Когда меня он ухватил, спросив: «А ты не думал, что я логик тоже?» 124 Он снес меня к Миносу; тот, обвив Хвост восемь раз вокруг спины могучей, Его от злобы даже укусив, 127 Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!» И вот я гибну, где ты зрел меня, И скорбно движусь в этой ризе жгучей!» 130 Свою докончив повесть, столб огня Покинул нас, терзанием объятый, Колючий рог свивая и клоня. 133 И дальше, гребнем, я и мой вожатый Прошли туда, где нависает свод Над рвом, в котором требуют расплаты 136 От тех, кто, разделяя, копит гнет.[507] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 1 Кто мог бы, даже вольными словами,[508] Поведать, сколько б он ни повторял, Всю кровь и раны, виденные нами? 4 Любой язык наверно бы сплошал: Объем рассудка нашего и речи, Чтобы вместить так много, слишком мал. 7 Когда бы вновь сошлись, в крови увечий, Все, кто в Пулийской роковой стране,[509] Страдая, изнемог на поле сечи 10 От рук троян[510] и в длительной войне, Перстнями заплатившей дань гордыне, Как пишет Ливий, истинный вполне;[511] 13 И те, кто тщился дать отпор дружине, Которую привел Руберт Гвискар,[512] И те, чьи кости отрывают ныне 16 Близ Чеперано, где нанес удар Обман пулийцев,[513] и кого лукавый У Тальякоццо[514] одолел Алар; 19 И кто култыгу, кто разруб кровавый Казать бы стал, – их превзойдет в сто крат Девятый ров чудовищной расправой. 22 Не так дыряв, утратив дно, ушат, Как здесь нутро у одного зияло От самых губ дотуда, где смердят: 25 Копна кишок между колен свисала, Виднелось сердце с мерзостной мошной, Где съеденное переходит в кало. 28 Несчастный, взглядом встретившись со мной, Разверз руками грудь, от крови влажен, И молвил так: «Смотри на образ мой! 31 Смотри, как Магомет[515] обезображен! Передо мной, стеня, идет Али, Ему весь череп надвое рассажен.[516] 34 И все, кто здесь, и рядом, и вдали, – Виновны были в распрях и раздорах Среди живых, и вот их рассекли. 37 Там сзади дьявол, с яростью во взорах, Калечит нас и не дает пройти, Кладя под лезвие все тот же ворох 40 На повороте скорбного пути; Затем что раны, прежде чем мы снова К нему дойдем, успеют зарасти. 43 А ты, что с гребня смотришь так сурово, Ты кто? Иль медлишь и страшишься дна, Где мука для повинного готова?» 46 Вождь молвил: «Он не мертв, и не вина Ведет его подземною тропою; Но чтоб он мог изведать все сполна, 49 Мне, мертвому, назначено судьбою Вести его сквозь Ад из круга в круг; И это – так, как я – перед тобою». 52 Их больше ста остановилось вдруг, Услышав это, и с недвижным взглядом Дивилось мне, своих не помня мук. 55 «Скажи Дольчино[517], если вслед за Адом Увидишь солнце: пусть снабдится он, Когда не жаждет быть со мною рядом, 58 Припасами, чтоб снеговой заслон Не подоспел новарцам на подмогу; Тогда нескоро будет побежден». 61 Так молвил Магомет, когда он ногу Уже приподнял, чтоб идти; потом Ее простер и двинулся в дорогу. 64 Другой, с насквозь пронзенным кадыком, Без носа, отсеченного по брови, И одноухий, на пути своем 67 Остановясь при небывалом слове, Всех прежде растворил гортань, извне Багровую от выступавшей крови, 70 И молвил: «Ты, безвинный, если мне Не лжет подобьем внешняя личина, Тебя я знал в латинской стороне; 73 И ты припомни Пьер да Медичина,[518] Там, где от стен Верчелли вьет межи До Маркабо отрадная равнина,[519] 76 И так мессеру Гвидо расскажи И Анджолелло, лучшим людям Фано, Что, если здесь в провиденье нет лжи, 79 Их с корабля наемники обмана Столкнут вблизи Каттолики в бурун, По вероломству злобного тирана. 82 От Кипра до Майорки, сколько лун Ни буйствуют пираты или греки, Черней злодейства не видал Нептун. 85 Обоих кривоглазый изверг некий, Владетель мест, которых мой сосед Хотел бы лучше не видать вовеки,[520] 88 К себе заманит как бы для бесед; Но у Фокары им уже ненужны Окажутся молитва и обет».[521] 91 И я на это: «Чтобы в мир наружный Весть о тебе я подал тем, кто жив, Скажи: чьи это очи так недужны?» 94 Тогда, на челюсть руку положив Товарищу, он рот ему раздвинул, Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив. 97 Он, изгнанный, от Цезаря отринул Сомнения, сказав: «Кто снаряжен, Не должен ждать, чтоб час удобный минул». 100 О, до чего казался мне смущен, С обрубком языка, торчащим праздно, Столь дерзостный на речи Курион![522] 103 И тут другой, увечный безобразно, Подняв остатки рук в окрестной мгле, Так что лицо от крови стало грязно, 106 Вскричал: «И Моску вспомни в том числе, Сказавшего: «Кто кончил, – дело справил». Он злой посев принес родной земле».[523] 109 «И смерть твоим сокровным!» – я добавил. Боль болью множа, он в тоске побрел И словно здравый ум его оставил. 112 А я смотрел на многолюдный дол И видел столь немыслимое дело, Что речь о нем я вряд ли бы повел, 115 Когда бы так не совесть мне велела, Подруга, ободряющая нас В кольчугу правды облекаться смело. 118 Я видел, вижу словно и сейчас, Как тело безголовое шагало В толпе, кружащей неисчетный раз, 121 И срезанную голову держало За космы, как фонарь, и голова Взирала к нам и скорбно восклицала. 124 Он сам себе светил, и было два В одном, единый в образе двойного, Как – знает Тот, чья власть во всем права. 127 Остановясь у свода мостового, Он кверху руку с головой простер, Чтобы ко мне свое приблизить слово, 130 Такое вот: «Склони к мученьям взор, Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно! Ты горших мук не видел до сих пор. 133 И если весть и обо мне желанна, Знай: я Бертрам де Борн, тот, что в былом Учил дурному короля Иоанна. 136 Я брань воздвиг меж сыном и отцом:[524] Не так Ахитофеловым советом Давид был ранен и Авессалом.[525] 139 Я связь родства расторг пред целым светом; За это мозг мой отсечен навек От корня своего в обрубке этом: 142 И я, как все, возмездья не избег». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 1 Вид этих толп и этого терзанья Так упоил мои глаза, что мне Хотелось плакать, не тая страданья. 4 «Зачем твой взор прикован к глубине? Чего ты ищешь, – мне сказал Вергилий, – Среди калек на этом скорбном дне? 7 Другие рвы тебя не так манили; Знай, если душам ты подводишь счет, Что путь их – в двадцать две окружных мили. 10 Уже луна у наших ног плывет; Недолгий срок осталось нам скитаться, И впереди тебя другое ждет». 13 Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться, Что я хотел увидеть, ты и сам Велел бы мне, быть может, задержаться». 16 Так говоря в ответ его словам, Уже я шел, а впереди вожатый, И я добавил: «В этой яме, там, 19 Куда я взор стремил, тоской объятый, Один мой родич[526] должен искупать Свою вину, платя столь тяжкой платой». 22 И вождь: «Раздумий на него не трать; Что ты его не встретил, – нет потери, И не о нем ты должен помышлять. 25 Я видел с моста: гневен в высшей мере, Он на тебя указывал перстом; Его, я слышал, ктото назвал Джери. 28 Ты в это время думал о другом, Готфорского приметив властелина,[527] И не видал; а он ушел потом». 31 И я: «Мой вождь, насильная кончина, Которой не отмстили за него Те, кто понес бесчестье, – вот причина 34 Его негодованья; оттого Он и ушел, со мною нелюдимый; И мне тем больше стало жаль его». 37 Так говоря, на новый свод взошли мы, Над следующим рвом, и, будь светлей, Нам были бы до самой глуби зримы 40 Последняя обитель Злых Щелей[528] И вся ее бесчисленная братья; Когда мы стали, в вышине, над ней, 43 В меня вонзились вопли и проклятья, Как стрелы, заостренные тоской; От боли уши должен был зажать я. 46 Какой бы стон был, если б в летний зной Собрать гуртом больницы Вальдикьяны, Мареммы и Сардиньи[529] и в одной 49 Сгрудить дыре, – так этот ров поганый Вопил внизу, и смрад над ним стоял, Каким смердят гноящиеся раны. 52 Мой вождь и я сошли на крайний вал, Свернув, как прежде, влево от отрога, И здесь мой взгляд живее проникал 55 До глуби, где, служительница бога, Суровая карает Правота Поддельщиков, которых числит строго. 58 Едва ли горше мука разлита Была над вымирающей Эгиной[530], Когда зараза стала так люта, 61 Что все живые твари до единой Побило мором, и былой народ Воссоздан был породой муравьиной, 64 Как из певцов иной передает, – Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому То кучами томились, то вразброд. 67 Кто на живот, кто на плечи другому Упав, лежал, а кто ползком, в пыли, По скорбному передвигался дому. 70 За шагом шаг, мы молчаливо шли, Склоняя взор и слух к толпе болевших, Бессильных приподняться от земли. 73 Я видел двух, спина к спине сидевших, Как две сковороды поверх огня, И от ступней по темя острупевших. 76 Поспешней конюх не скребет коня, Когда он знает – господин заждался, Иль утомившись на исходе дня, 79 Чем тот и этот сам в себя вгрызался Ногтями, чтоб на миг унять свербеж, Который только этим облегчался. 82 Их ногти кожу обдирали сплошь, Как чешую с крупночешуйной рыбы Или с леща соскабливает нож. 85 «О ты, чьи все растерзаны изгибы, А пальцы, словно клещи, мясо рвут, – Вождь одному промолвил, – не могли бы 88 Мы от тебя услышать, нет ли тут Каких латинян? Да не обломаешь Вовек ногтей, несущих этот труд!» 91 Он всхлипнул так: «Ты и сейчас взираешь На двух латинян и на их беду. Но кто ты сам, который вопрошаешь?» 94 И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду Из круга в круг по темному простору, Чтоб он увидел все, что есть в Аду». 97 Тогда, сломав взаимную опору, Они, дрожа, взглянули на меня, И все, кто был свидетель разговору. 100 Учитель, ясный взор ко мне склоня, Сказал: «Скажи им, что тебе угодно». И я, охотно волю подчиня: 103 «Пусть память ваша не прейдет бесплодно В том первом мире, где вы рождены, Но много солнц продлится всенародно! 106 Скажите, кто вы, из какой страны; Вы ваших омерзительных мучений Передо мной стыдиться не должны». 109 «Я из Ареццо; и Альберо в Сьене, – Ответил дух, – спалил меня, хотя И не за то, за что я в царстве теней. 112 Я, правда, раз ему сказал, шутя: «Я и полет по воздуху изведал»; А он, живой и глупый, как дитя, 115 Просил его наставить; так как Дедал Не вышел из него, то тот, кому Он был как сын, меня сожженью предал. 118 Но я алхимик был, и потому Минос, который ввек не ошибется, Меня послал в десятую тюрьму».[531] 121 И я поэту: «Где еще найдется Народ беспутней сьенцев? И самим Французам с ними нелегко бороться!» 124 Тогда другой лишавый,[532] рядом с ним, Откликнулся: «За исключеньем Стрикки, Умевшего в расходах быть скупым;[533] 127 И Никколо, любителя гвоздики, Которую он первый насадил В саду, принесшем урожай великий;[534] 130 И дружества[535], в котором прокутил Ашанский Качча[536] и сады, и чащи, А Аббальято[537] разум истощил. 133 И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий Над сьенцами, всмотрись в мои черты И убедись, что этот дух скорбящий – 136 Капоккьо, тот, что в мире суеты Алхимией подделывал металлы; Я, как ты помнишь, если это ты, 139 Искусник в обезьянстве был немалый».[538] ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ 1 В те дни, когда Юнона воспылала Изза Семелы гневом на фивян, Как многократно это показала, – 4 На разум Афаманта пал туман, И, на руках увидев у царицы Своих сынов, безумством обуян, 7 Царь закричал: «Поставим сеть для львицы Со львятами и путь им преградим!» – И, простирая когти хищной птицы, 10 Схватил Леарха, размахнулся им И раздробил младенца о каменья; Мать утопилась вместе со вторым.[539] 13 И в дни, когда с вершины дерзновенья Фортуна Трою свергла в глубину И сгинули владетель и владенья, 16 Гекуба, в горе, в бедствиях, в плену, Увидев Поликсену умерщвленной, А там, где море в берег бьет волну, 19 Труп Полидора, страшно искаженный, Залаяла, как пес, от боли взвыв: Не устоял рассудок потрясенный.[540] 22 Но ни троянский гнев, ни ярость Фив Свирепей не являли исступлений, Зверям иль людям тело изъязвив,[541] 25 Чем предо мной две бледных голых тени,[542] Которые, кусая всех кругом, Неслись, как боров, поломавший сени. 28 Одна Капоккьо[543] в шею вгрызлась ртом И с ним помчалась; испуская крики, Он скреб о жесткий камень животом. 31 Дрожа всем телом: «Это Джанни Скикки[544], – Промолвил аретинец[545]. – Всем постыл, Он донимает всех, такой вот дикий». 34 «О, чтоб другой тебя не укусил! Пока он здесь, дай мне ответ нетрудный, Скажи, кто он», – его я попросил. 37 Он молвил: «Это Мирры безрассудной Старинный дух, той, что плотских утех С родным отцом искала в страсти блудной, 40 Она такой же с ним свершила грех, Себя подделав и обману рада,[546] Как тот, кто там бежит, терзая всех, 43 Который, пожелав хозяйку стада, Подделал старого Буозо, лег И завещанье совершил, как надо».[547] 46 Когда и тот, и этот стал далек Свирепый дух, мой взор, опять спокоен, К другим несчастным[548] обратиться мог. 49 Один совсем как лютня был устроен; Ему бы лишь в паху отсечь долой Весь низ, который у людей раздвоен. 52 Водянка порождала в нем застой Телесных соков, всю его середку Раздув несоразмерно с головой. 55 И он, от жажды разевая глотку, Распялил губы, как больной в огне, Одну наверх, другую к подбородку. 58 «Вы, почемуто здравыми вполне Сошедшие в печальные овраги, – Сказал он нам, – склоните взор ко мне! 61 Вот казнь Адамо, мастерабедняги! Я утолял все прихоти свои, А здесь я жажду хоть бы каплю влаги. 64 Все время казентинские ручьи, С зеленых гор свергающие в Арно По мягким руслам свежие струи, 67 Передо мною блещут лучезарно. И я в лице от этого иссох; Моя болезнь, и та не так коварна. 70 Там я грешил, там схвачен был врасплох, И вот теперь – к местам, где я лукавил, Я осужден стремить за вздохом вздох. 73 Я там, в Ромене, примесью бесславил Крестителем запечатленный сплав,[549] За что и тело на костре оставил. 76 Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав, Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,[550] Всю Бранду[551] я отдам, возликовав. 79 Один уж прибыл,[552] если полагаться На этих буйных, бегающих тут. Да что мне в этом, раз нет сил подняться? 82 Когда б я был чутьчуть поменьше вздут, Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий, Я бы давно предпринял этот труд, 85 Ища его среди всей этой гнили, Хотя дорожных миль по кругу здесь Одиннадцать да поперек полмили. 88 Я изза них обезображен весь; Для них я подбавлял неутомимо К флоринам трехкаратную подмесь[553]».[554] 91 И я: «Кто эти двое,[555] в клубе дыма, Как на морозе мокрая рука, Что справа распростерты недвижимо?» 94 Он отвечал: «Я их, к щеке щека, Так и застал, когда был втянут Адом; Лежать им, видно, вечные века. 97 Вот лгавшая на Иосифа;[556] а рядом Троянский грек и лжец Синон[557]; их жжет Горячка, потому и преют чадом». 100 Сосед, решив, что не такой почет Заслуживает знатная особа,[558] Ткнул кулаком в его тугой живот. 103 Как барабан, откликнулась утроба; Но мастер по лицу его огрел Рукой, насколько позволяла злоба, 106 Сказав ему: «Хоть я отяжелел И мне в движенье тело непокорно, Рука еще годна для этих дел». 109 «Шагая в пламя, – молвил тот задорно, – Ты был не такто на руку ретив,[559] А деньги бить она была проворна». 112 И толстопузый: «В этом ты правдив, Куда правдивей, чем когда троянам Давал ответ, душою покривив». 115 И грек: «Я словом лгал, а ты – чеканом! Всего один проступок у меня, А ты всех бесов превзошел обманом!» 118 «Клятвопреступник, вспомни про коня, – Ответил вздутый, – и казнись позором, Всем памятным до нынешнего дня!» 121 «А ты казнись, – сказал Синон, – напором Гнилой водицы, жаждой иссушен И животом заставясь, как забором!» 124 Тогда монетчик: «Искони времен Твою гортань от скверны раздирало; Я жажду, да, и соком наводнен, 127 А ты горишь, мозг болью изглодало, И ты бы кинулся на первый зов Лизнуть разок Нарциссово зерцало».[560] 130 Я вслушивался в звуки этих слов, Но вождь сказал: «Что ты нашел за диво? Я рассердиться на тебя готов». 133 Когда он так проговорил гневливо, Я на него взглянул с таким стыдом, Что до сих пор воспоминанье живо. 136 Как тот, кто, удрученный скорбным сном, Во сне хотел бы, чтобы это снилось, О сущем грезя, как о небылом, 139 Таков был я: мольба к устам теснилась; Я ждал, что, вняв ей, он меня простит, И я не знал, что мне уже простилось. 142 «Крупней вину смывает меньший стыд, – Сказал мой вождь, – и то, о чем мы судим, Тебя уныньем пусть не тяготит. 145 Но знай, что я с тобой, когда мы будем Идти, быть может, так же взор склонив К таким вот препирающимся людям: 148 Позыв их слушать – низменный позыв». ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Язык, который так меня ужалил, Что даже изменился цвет лица, Мне сам же и лекарством язву залил;[561] 4 Копье Ахилла и его отца Бывало так же, слышал я, причиной Начальных мук и доброго конца.[562] 7 Спиной к больному рву, мы шли равниной,[563] Которую он поясом облег, И слова не промолвил ни единый. 10 Ни ночь была, ни день, и я не мог Проникнуть взором в дали окоема, Но вскоре я услышал зычный рог, 13 Который громче был любого грома, И я глаза навел на этот рев, Как будто зренье было им влекомо. 16 В плачевной сече, где святых бойцов Великий Карл утратил в оны лета, Не так ужасен был Орландов зов.[564] 19 И вот возник из сумрачного света Какихто башен вознесенный строй; И я: «Учитель, что за город это?» 22 «Ты мечешь взгляд, – сказал вожатый мой, – Сквозь этот сумрак слишком издалека, А это может обмануть порой. 25 Ты убедишься, приближая око, Как, издали судя, ты был неправ; Так подбодрись же и шагай широко». 28 И, ласково меня за руку взяв: «Чтобы тебе их облик не был страшен, Узнай сейчас, еще не увидав, 31 Что это – строй гигантов, а не башен; Они стоят в колодце, вкруг жерла, И низ их, от пупа, оградой скрашен». 34 Как, если тает облачная мгла, Взгляд начинает различать немного Все то, что муть туманная крала, 37 Так, с каждым шагом, ведшим нас полого Сквозь этот плотный воздух под уклон, Обман мой таял, и росла тревога: 40 Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне[565] на своей вершине, Так здесь, венчая круговой заслон, 43 Маячили, подобные твердыне, Ужасные гиганты, те, кого Дий, в небе грохоча, страшит поныне.[566] 46 Уже я различал у одного Лицо и грудь, живот до бедер тучных И руки книзу вдоль боков его. 49 Спасла Природа многих злополучных, Подобные пресекши племена, Чтоб Марс не мог иметь таких подручных; 52 И если нераскаянна она В слонах или китах, тут есть раскрытый Для взора смысл, и мера здесь видна; 55 Затем что там, где властен разум, слитый Со злобной волей и громадой сил, Там для людей нет никакой защиты. 58 Лицом он так широк и длинен был, Как шишка в Риме близ Петрова храма;[567] И весь костяк размером подходил; 61 От кромки – ноги прикрывала яма – До лба не дотянулись бы вовек Три фриза,[568] стоя друг на друге прямо; 64 От места, где обычно человек Скрепляет плащ, до бедер – тридцать клалось Больших пядей. «Rafel mai amech 67 Izabi almi», – яростно раздалось Из диких уст, которым искони Нежнее петь псалмы не полагалось. 70 И вождь ему: «Ты лучше в рог звени, Безумный дух! В него – избыток злобы И всякой страсти из себя гони! 73 О смутный дух, ощупай шею, чтобы Найти ремень; тогда бы ты постиг, Что рог подвешен у твоей утробы».[569] 76 И мне: «Он сам явил свой истый лик; То царь Немврод, чей замысел ужасный Виной, что в мире не один язык. 79 Довольно с нас; беседы с ним напрасны: Как он ничьих не понял бы речей, Так никому слова его не ясны».[570] 82 Мы продолжали путь, свернув левей, И, отойдя на выстрел самострела, Нашли другого, больше и дичей. 85 Чья сила великана одолела, Не знаю; сзади – правая рука, А левая вдоль переда висела 88 Прикрученной, и, оплетя бока, Цепь завивалась, по открытой части, От шеи вниз, до пятого витка. 91 «Гордец, насильем домогаясь власти, С верховным Дием в бой вступил, и вот, – Сказал мой вождь, – возмездье буйной страсти. 94 То Эфиальт[571]; он был их верховод, Когда богов гиганты устрашали; Теперь он рук вовек не шевельнет». 97 И я сказал учителю: «Нельзя ли, Чтобы, каков безмерный Бриарей[572], Мои глаза на опыте узнали?» 100 И он ответил: «Здесь вблизи Антей; Он говорит, он в пропасти порока Опустит нас, свободный от цепей. 103 А тот, тобою названный, – далеко; Как этот – скован, и такой, как он; Лицо лишь разве более жестоко». 106 Так мощно башня искони времен Не содрогалась от землетрясенья, Как Эфиальт сотрясся, разъярен. 109 Я ждал, в испуге, смертного мгновенья, И впрямь меня убил бы страх один, Когда бы я не видел эти звенья. 112 Мы вновь пошли, и новый исполин, Антей, возник из темной котловины, От чресл до шеи ростом в пять аршин. 115 «О ты, что в дебрях роковой долины, – Где Сципион был вознесен судьбой, Рассеяв Ганнибаловы дружины, – 118 Не счел бы львов, растерзанных тобой, Ты, о котором говорят: таков он, Что, если б он вел братьев в горний бой, 121 Сынам Земли венец был уготован,[573] Спусти нас – и не хмурь надменный взгляд – В глубины, где Коцит морозом скован. 124 Тифей и Титий[574] далеко стоят; Мой спутник дар тебе вручит бесценный; Не корчи рот, нагнись; он будет рад 127 Тебя опять прославить во вселенной; Он жив и долгий век себе сулит, Когда не будет призван в свет блаженный». 130 Так молвил вождь; и вот гигант спешит Принять его в простертые ладони, Которых крепость испытал Алкид. 133 Вергилий, ощутив себя в их лоне, Сказал: «Стань тут», – и, чтоб мой страх исчез, Обвил меня рукой, надежней брони. 136 Как Гаризенда[575], если стать под свес, Вершину словно клонит понемногу Навстречу туче в высоте небес, 139 Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу, Навис Антей, и в этот миг я знал, Что сам не эту выбрал бы дорогу. 142 Но он легко нас опустил в провал,
Где поглощен Иуда тьмой предельной И Люцифер. И, разогнувшись, встал, 145 Взнесясь подобно мачте корабельной. ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 Когда б мой стих был хриплый и скрипучий, Как требует зловещее жерло, Куда спадают все другие кручи, 4 Мне б это крепче выжать помогло Сок замысла; но здесь мой слог некстати, И речь вести мне будет тяжело; 7 Ведь вовсе не из легких предприятий – Представить образ мирового дна; Тут не отделаешься «мамойтятей». 10 Но помощь Муз да будет мне дана, Как Амфиону[576], строившему Фивы, Чтоб в слове сущность выразить сполна. 13 Жалчайший род, чей жребий несчастливый И молвить трудно, лучше б на земле Ты был овечьим стадом, нечестивый! 16 Мы оказались[577] в преисподней мгле, У ног гиганта, на равнине гладкой, И я дивился шедшей вверх скале, 19 Как вдруг услышал крик: «Шагай с оглядкой! Ведь ты почти что на головы нам, Злосчастным братьям,[578] наступаешь пяткой!» 22 Я увидал, взглянув по сторонам, Что подо мною озеро, от стужи Подобное стеклу, а не волнам. 25 В разгар зимы не облечен снаружи Таким покровом в Австрии Дунай, И дальний Танаис[579] твердеет хуже; 28 Когда бы Тамбернику[580] невзначай Иль Пьетрапане[581] дать сюда свалиться, У озера не хрустнул бы и край. 31 И как лягушка выставить ловчится, Чтобы поквакать, рыльце из пруда, Когда ж ее страда и ночью снится, 34 Так, вмерзши до таилища стыда[582] И аисту под звук стуча зубами, Синели души грешных изо льда. 37 Свое лицо они склоняли сами, Свидетельствуя в облике таком О стуже – ртом, о горести – глазами. 40 Взглянув окрест, я вновь поник челом И увидал двоих,[583] так сжатых рядом, Что волосы их сбились в цельный ком. 43 «Вы, грудь о грудь окованные хладом, – Сказал я, – кто вы?» Каждый шею взнес И на меня оборотился взглядом. 46 И их глаза, набухшие от слез, Излились влагой, и она застыла, И веки им обледенил мороз. 49 Бревно с бревном скоба бы не скрепила Столь прочно; и они, как два козла, Боднулись лбами, – так их злость душила. 52 И ктото молвил,[584] не подняв чела, От холода безухий: «Что такое? Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала? 55 Когда ты хочешь знать, кто эти двое: Им завещал Альберто, их отец, Бизенцский дол, наследье родовое. 58 Родные братья; из конца в конец Обшарь хотя бы всю Каину, – гаже Не вязнет в студне ни один мертвец: 61 Ни тот, которому, на зоркой страже, Артур пронзил копьем и грудь и тень,[585] Ни сам Фокачча[586], ни вот этот даже, 64 Что головой мне застит скудный день И прозывался Сассоль Маскерони; В Тоскане слышали про эту тень.[587] 67 А я, – чтоб все явить, как на ладони, – Был Камичон де'Пацци,[588] и я жду Карлино[589] для затменья беззаконий». 70 Потом я видел сотни лиц[590] во льду, Подобных песьим мордам; и доныне Страх у меня к замерзшему пруду. 73 И вот, пока мы шли к той середине, Где сходится всех тяжестей поток,[591] И я дрожал в темнеющей пустыне, – 76 Была то воля,[592] случай или рок, Не знаю, – только, меж голов ступая, Я одному ногой ушиб висок. 79 «Ты что дерешься? – вскрикнул дух, стеная. – Ведь не пришел же ты меня толкнуть, За Монтаперти лишний раз отмщая?»[593] 82 И я: «Учитель, подожди чутьчуть; Пусть он меня избавит от сомнений; Потом ускорим, сколько хочешь, путь». 85 Вожатый стал; и я промолвил тени, Которая ругалась всем дурным: «Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?» 88 «А сам ты кто, ступающий другим На лица в Антеноре, – он ответил, – Больней, чем если бы ты был живым?» 91 «Я жив, и ты бы утешенье встретил, – Был мой ответ, – когда б из рода в род В моих созвучьях я тебя отметил». 94 И он сказал: «Хочу наоборот. Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый: Нашел, чем льстить средь ледяных болот!» 97 Вцепясь ему в затылок волосатый, Я так сказал: «Себя ты назовешь Иль без волос останешься, проклятый!» 100 И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь, Я не скажу, не обнаружу, кто я, Хотя б меня ты изувечил сплошь». 103 Уже, рукой в его загривке роя, Я не одну ему повыдрал прядь, А он глядел все книзу, громко воя. 106 Вдруг ктото крикнул: «Бокка, брось орать! И без того уж челюстью грохочешь. Разлаялся! Кой черт с тобой опять?» 109 «Теперь молчи, – сказал я, – если хочешь, Предатель гнусный! В мире свой позор Через меня навеки ты упрочишь». 112 «Ступай, – сказал он, – врать тебе простор. Но твой рассказ пусть в точности означит И этого, что на язык так скор. 115 Он по французским денежкам здесь плачет. «Дуэра[594], – ты расскажешь, – водворен Там, где в прохладце грешный люд маячит». 118 А если спросят, кто еще, то вон – Здесь Беккерия[595], ближе братьи прочей, Которому нашейник[596] рассечен; 121 Там Джанни Сольданьер[597] потупил очи, И Ганеллон, и Тебальделло с ним,[598] Тот, что Фаэнцу отомкнул средь ночи». 124 Мы отошли, и тут глазам моим Предстали двое, в яме леденея; Один, как шапкой, был накрыт другим. 127 Как хлеб грызет голодный, стервенея, Так верхний зубы нижнему вонзал Туда, где мозг смыкаются и шея. 130 И сам Тидей не яростней глодал Лоб Меналиппа, в час перед кончиной,[599] Чем этот призрак череп пожирал. 133 «Ты, одержимый злобою звериной К тому, кого ты истерзал, жуя, Скажи, – промолвил я, – что ей причиной. 136 И если праведна вражда твоя, – Узнав, кто вы и чем ты так обижен, Тебе на свете послужу и я, 139 Пока не станет мой язык недвижен». ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 Подняв уста от мерзостного брашна, Он вытер свой окровавленный рот О волосы, в которых грыз так страшно, 4 Потом сказал: «Отчаянных невзгод Ты в скорбном сердце обновляешь бремя; Не только речь, и мысль о них гнетет. 7 Но если слово прорастет, как семя, Хулой врагу, которого гложу, Я рад вещать и плакать в то же время. 10 Не знаю, кто ты, как прошел межу Печальных стран, откуда нет возврата, Но ты тосканец, как на слух сужу. 13 Я графом Уголино был когдато, Архиепископом Руджери – он;[600] Недаром здесь мы ближе, чем два брата. 16 Что я злодейски был им обойден, Ему доверясь, заточен как пленник, Потом убит, – известно испокон; 19 Но ни один не ведал современник Про то, как смерть моя была страшна. Внемли и знай, что сделал мой изменник. 22 В отверстье клетки – с той поры она Голодной Башней называться стала, И многим в ней неволя суждена – 25 Я новых лун перевидал немало, Когда зловещий сон меня потряс, Грядущего разверзши покрывало. 28 Он, с ловчими, – так снилось мне в тот час, – Гнал волка и волчат от их стоянки К холму, что Лукку заслонил от нас; 31 Усердных псиц задорил дух приманки,[601] А головными впереди неслись Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.[602] 34 Отцу и детям было не спастись: Охотникам досталась их потреба, И в ребра зубы острые впились. 37 Очнувшись раньше, чем зарделось небо, Я услыхал, как, мучимые сном, Мои четыре сына[603] просят хлеба. 40 Когда без слез ты слушаешь о том, Что этим стоном сердцу возвещалось, – Ты плакал ли когданибудь о чем? 43 Они проснулись; время приближалось, Когда тюремщик пищу подает, И мысль у всех недавним сном терзалась.[604] 46 И вдруг я слышу – забивают вход Ужасной башни; я глядел, застылый, На сыновей; я чувствовал, что вот – 49 Я каменею, и стонать нет силы; Стонали дети; Ансельмуччо мой Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?» 52 Но я не плакал; молча, как немой, Провел весь день и ночь, пока денница Не вышла с новым солнцем в мир земной. 55 Когда луча ничтожная частица Проникла в скорбный склеп и я открыл, Каков я сам, взглянув на эти лица, – 58 Себе я пальцы в муке укусил. Им думалось, что это голод нудит Меня кусать; и каждый, встав, просил: 61 «Отец, ешь нас, нам это легче будет; Ты дал нам эти жалкие тела, – Возьми их сам; так справедливость судит». 64 Но я утих, чтоб им не делать зла. В безмолвье день, за ним другой промчался. Зачем, земля, ты нас не пожрала! 67 Настал четвертый. Гаддо зашатался И бросился к моим ногам, стеня: «Отец, да помоги же!» – и скончался. 70 И я, как ты здесь смотришь на меня, Смотрел, как трое пали друг за другом От пятого и до шестого дня. 73 Уже слепой, я щупал их с испугом, Два дня звал мертвых с воплями тоски; Но злей, чем горе, голод был недугом».[605] 76 Тут он умолк и вновь, скосив зрачки, Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая Как у собаки крепкие клыки. 79 О Пиза, стыд пленительного края, Где раздается si![606] Коль медлит суд Твоих соседей, – пусть, тебя карая, 82 Капрара и Горгона с мест сойдут И устье Арно заградят заставой,[607] Чтоб утонул весь твой бесчестный люд! 85 Как ни был бы ославлен темной славой Граф Уголино, замки уступив,[608] – За что детей вести на крест неправый! 88 Невинны были, о исчадье Фив,[609] И Угуччоне с молодым Бригатой, И те, кого я назвал,[610] в песнь вложив. 91 Мы шли вперед[611] равниною покатой Туда, где, лежа навзничь, грешный род Терзается, жестоким льдом зажатый. 94 Там самый плач им плакать не дает, И боль, прорвать не в силах покрывала, К сугубой муке снова внутрь идет; 97 Затем что слезы с самого начала, В подбровной накопляясь глубине, Твердеют, как хрустальные забрала. 100 И в этот час, хоть и казалось мне, Что все мое лицо, и лоб, и веки От холода бесчувственны вполне, 103 Я ощутил как будто ветер некий. «Учитель, – я спросил, – чем он рожден? Ведь всякий пар угашен здесь навеки».[612] 106 И вождь: «Ты вскоре будешь приведен В то место, где, узрев ответ воочью, Постигнешь сам, чем воздух возмущен». 109 Один из тех, кто скован льдом и ночью, Вскричал: «О души, злые до того, Что вас послали прямо к средоточью, 112 Снимите гнет со взгляда моего, Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою, Пока мороз не затянул его». 115 И я в ответ: «Тебе я взор открою, Но назовись; и если я солгал, Пусть окажусь под ледяной корою!» 118 «Я – инок Альбериго, – он сказал, – Тот, что плоды растил на злое дело[613] И здесь на финик смокву променял».[614] 121 «Ты разве умер?»[615] – с уст моих слетело. И он в ответ: «Мне ведать не дано, Как здравствует мое земное тело. 124 Здесь, в Толомее, так заведено, Что часто души, раньше, чем сразила Их Атропос[616], уже летят на дно. 127 И чтоб тебе еще приятней было Снять у меня стеклянный полог с глаз, Знай, что, едва предательство свершила, 130 Как я, душа, вселяется тотчас Ей в тело бес, и в нем он остается, Доколе срок для плоти не угас. 133 Душа катится вниз, на дно колодца. Еще, быть может, к мертвым не причли И ту, что там за мной от стужи жмется. 136 Ты это должен знать, раз ты с земли: Он звался Бранка д'Орья;[617] наша братья С ним свыклась, годы вместе провели». 139 «Что это правда, мало вероятья, – Сказал я. – Бранка д'Орья жив, здоров, Он ест, и пьет, и спит, и носит платья». 142 И дух в ответ: «В смолой кипящий ров Еще Микеле Цанке не направил, С землею разлучась, своих шагов, 145 Как этот беса во плоти оставил Взамен себя, с сородичем одним, С которым вместе он себя прославил.[618] 148 Но руку протяни к глазам моим, Открой мне их!» И я рукой не двинул, И было доблестью быть подлым с ним. 151 О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул Последний стыд и все осквернено, Зачем ваш род еще с земли не сгинул? 154 С гнуснейшим из романцев[619] заодно Я встретил одного из вас,[620] который Душой в Коците погружен давно, 157 А телом здесь обманывает взоры. ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Vexilla regis prodeunt inferni[621] Навстречу нам, – сказал учитель. – Вот, Смотри, уже он виден в этой черни». 4 Когда на нашем небе ночь встает Или в тумане меркнет ясность взгляда, Так мельница вдали крылами бьет, 7 Как здесь во мгле встававшая громада. Я хоронился за вождем, как мог, Чтобы от ветра мне была пощада. 10 Мы были там, – мне страшно этих строк, – Где тени в недрах ледяного слоя Сквозят глубоко, как в стекле сучок. 13 Одни лежат; другие вмерзли стоя, Кто вверх, кто книзу головой застыв; А кто – дугой, лицо ступнями кроя.[622] 16 В безмолвии дальнейший путь свершив И пожелав, чтобы мой взгляд окинул Того, кто был когдато так красив, 19 Учитель мой вперед меня подвинул, Сказав: «Вот Дит[623], вот мы пришли туда, Где надлежит, чтоб ты боязнь отринул». 22 Как холоден и слаб я стал тогда, Не спрашивай, читатель; речь – убоже; Писать о том не стоит и труда. 25 Я не был мертв, и жив я не был тоже; А рассудить ты можешь и один: Ни тем, ни этим быть – с чем это схоже. 28 Мучительной державы властелин Грудь изо льда вздымал наполовину; И мне по росту ближе исполин, 31 Чем руки Люцифера исполину; По этой части ты бы сам расчел, Каков он весь, ушедший телом в льдину. 34 О, если вежды он к Творцу возвел[624] И был так дивен, как теперь ужасен, Он, истинно, первопричина зол! 37 И я от изумленья стал безгласен, Когда увидел три лица на нем; Одно – над грудью; цвет его был красен; 40 А над одним и над другим плечом Два смежных с этим в стороны грозило, Смыкаясь на затылке под хохлом. 43 Лицо направо – беложелтым было; Окраска же у левого была, Как у пришедших с водопадов Нила.[625] 46 Росло под каждым два больших крыла, Как должно птице, столь великой в мире; Таких ветрил и мачта не несла. 49 Без перьев, вид у них был нетопырий; Он ими веял, движа рамена, И гнал три ветра вдоль по темной шири, 52 Струи Коцита леденя до дна. Шесть глаз точило слезы, и стекала Из трех пастей кровавая слюна. 55 Они все три терзали, как трепала, По грешнику;[626] так, с каждой стороны По одному, в них трое изнывало. 58 Переднему не зубы так страшны, Как ногти были, все одну и ту же Сдирающие кожу со спины. 61 «Тот, наверху, страдающий всех хуже, – Промолвил вождь, – Иуда Искарьот; Внутрь головой и пятками наруже. 64 А эти – видишь – головой вперед: Вот Брут, свисающий из черной пасти; Он корчится – и губ не разомкнет! 67 Напротив – Кассий, телом коренастей.[627] Но наступает ночь;[628] пора и в путь; Ты видел все, что было в нашей власти». 70 Велев себя вкруг шеи обомкнуть И выбрав миг и место, мой вожатый, Как только крылья обнажили грудь, 73 Приблизился, вцепился в стан косматый И стал спускаться вниз, с клока на клок, Меж корок льда и грудью волосатой. 76 Когда мы пробирались там, где бок, Загнув к бедру, дает уклон пологий, Вождь, тяжело дыша, с усильем лег 79 Челом туда, где прежде были ноги, И стал по шерсти подыматься ввысь, Я думал – вспять, по той же вновь дороге.[629] 82 Учитель молвил: «Крепче ухватись, – И он дышал, как человек усталый. – Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись». 85 Он в толще скал проник сквозь отступ малый. Помог мне сесть на край, потом ко мне Уверенно перешагнул на скалы.[630] 88 Я ждал, глаза подъемля к Сатане, Что он такой, как я его покинул, А он торчал ногами к вышине. 91 И что за трепет на меня нахлынул, Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ, Не угадал, какой рубеж я минул. 94 «Встань, – вождь промолвил. – Ожидает нас Немалый путь, и нелегка дорога, А солнце входит во второй свой час».[631] 97 Мы были с ним не посреди чертога; То был, верней, естественный подвал, С неровным дном, и свет мерцал убого. 100 «Учитель, – молвил я, как только встал, – Пока мы здесь, на глубине безвестной, Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал: 103 Где лед? Зачем вот этот в яме тесной Торчит стремглав? И как уже пройден От ночи к утру солнцем путь небесный?» 106 «Ты думал – мы, как прежде, – молвил он, – За средоточьем, там, где я вцепился В руно червя, которым мир пронзен? 109 Спускаясь вниз, ты там и находился; Но я в той точке сделал поворот, Где гнет всех грузов отовсюду слился; 112 И над тобой теперь небесный свод, Обратный своду, что взнесен навеки Над сушей и под сенью чьих высот 115 Угасла жизнь в безгрешном Человеке;[632] Тебя держащий каменный настил Есть малый круг, обратный лик Джудекки. 118 Тут – день встает, там – вечер наступил; А этот вот, чья лестница мохната, Все так же воткнут, как и прежде был. 121 Сюда с небес вонзился он когдато; Земля, что раньше наверху цвела, Застлалась морем, ужасом объята, 124 И в наше полушарье перешла; И здесь, быть может, вверх горой скакнула, И он остался в пустоте дупла».[633] 127 Там место есть, вдали от Вельзевула, Насколько стены склепа вдаль ведут; Оно приметно только изза гула 130 Ручья, который вытекает тут, Пробившись через камень, им точимый; Он вьется сверху, и наклон не крут. 133 Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались все вверх, неутомимы, 136 Он – впереди, а я ему вослед, Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий просвет;[634] 139 И здесь мы вышли вновь узреть светила.[635]
ЧИСТИЛИЩЕ
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 1 Для лучших вод подъемля парус ныне, Мой гений вновь стремит свою ладью, Блуждавшую в столь яростной пучине, 4 И я второе царство[636] воспою, Где души обретают очищенье И к вечному восходят бытию. 7 Пусть мертвое воскреснет песнопенье,[637] Святые Музы, – я взываю к вам; Пусть Каллиопа, мне в сопровожденье, 10 Поднявшись вновь, ударит по струнам, Как встарь, когда Сорок сразила лира И нанесла им беспощадный срам.[638] 13 Отрадный цвет восточного сапфира, Накопленный в воздушной вышине, Прозрачной вплоть до первой тверди мира, 16 Опять мне очи упоил вполне, Чуть я расстался с темью без рассвета, Глаза и грудь отяготившей мне. 19 Маяк любви, прекрасная планета, Зажгла восток улыбкою лучей, И ближних Рыб затмила ясность эта.[639]
22 Я вправо, к остью,[640] поднял взгляд очей, И он пленился четырьмя звездами, Чей отсвет первых озарял людей.[641] 25 Казалось, твердь ликует их огнями; О северная сирая страна, Где их сверканье не горит над нами![642] 28 Покинув оком эти пламена, Я обратился к остью полуночи,[643] Где Колесница[644] не была видна; 31 И некий старец[645] мне предстал пред очи, Исполненный почтенности такой, Какой для сына полон облик отчий. 34 Цвет бороды был исчернаседой, И ей волна волос уподоблялась, Ложась на грудь раздвоенной грядой. 37 Его лицо так ярко украшалось Священным светом четырех светил, Что это блещет солнце – мне казалось. 40 «Кто вы, и кто темницу вам открыл, Чтобы к слепому выйти водопаду?[646] – Колебля оперенье[647], он спросил. – 43 Кто вывел вас? Где взяли вы лампаду, Чтоб выбраться из глубины земли Сквозь черноту, разлитую по Аду? 46 Вы ль над законом бездны возмогли, Иль новое решилось в горней сени, Что падшие к скале моей пришли?» 49 Мой вождь, внимая величавой тени, И голосом, и взглядом, и рукой Мне преклонил и веки, и колени. 52 Потом сказал: «Я здесь не сам собой. Жена сошла с небес, ко мне взывая, Чтоб я помог идущему со мной. 55 Но раз ты хочешь точно знать, какая У нас судьба, то это мне закон, Который я уважу, исполняя. 58 Последний вечер[648] не изведал он; Но был к нему так близок, безрассудный, Что срок ему недолгий был сужден. 61 Как я сказал, к нему я в этот трудный Был послан час; и только через тьму Мог вывести его стезею чудной. 64 Весь грешный люд я показал ему; И души показать ему желаю, Врученные надзору твоему. 67 Как мы блуждали, я не излагаю; Мне сила свыше помогла, и вот Тебя я вижу и тебе внимаю. 70 Ты благосклонно встреть его приход: Он восхотел свободы,[649] столь бесценной, Как знают все, кто жизнь ей отдает. 73 Ты это знал, приняв, как дар блаженный, Смерть в Утике, где ризу бытия Совлек, чтоб в грозный день[650] ей стать нетленной. 76 Запретов не ломал ни он, ни я: Он – жив, меня Минос[651] нигде не тронет, И круг мой – тот, где Марция твоя[652] 79 На дне очей мольбу к тебе хоронит, О чистый дух, считать ее своей.[653] Пусть мысль о ней и к нам тебя преклонит! 82 Дай нам войти в твои семь царств,[654] чтоб ей Тебя я славил, ежели пристала Речь о тебе средь горестных теней». 85 «Мне Марция настолько взор пленяла, Пока я был в том мире, – он сказал, – Что для нее я делал все, бывало. 88 Теперь меж нас бежит зловещий вал;[655] Я, изведенный силою чудесной,[656] Блюдя устав, к ней безучастен стал. 91 Но если ты посол жены небесной, Достаточно и слова твоего, Без всякой льстивой речи, здесь невместной. 94 Ступай и тростьем опояшь его[657] И сам ему омой лицо, стирая Всю грязь, чтоб не осталось ничего. 97 Нельзя, глазами мглистыми взирая, Идти навстречу первому из слуг,[658] Принадлежащих к светлым сонмам Рая. 100 Весь этот островок обвив вокруг, Внизу, где море бьет в него волною, Растет тростник вдоль илистых излук. 103 Растения, обильные листвою Иль жесткие, не могут там расти, Затем что неуступчивы прибою. 106 Вернитесь не по этому пути; Восходит солнце и покажет ясно, Как вам удобней на гору взойти». 109 Так он исчез; я встал с колен и, страстно Прильнув к тому, кто был моим вождем Его глаза я вопрошал безгласно. 112 Он начал: «Сын, ступай за мной; идем В ту сторону; мы здесь на косогоре И по уклону книзу повернем». 115 Уже заря одолевала в споре Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд, Я различал трепещущее море. 118 Мы шли, куда нас вел безлюдный скат, Как тот, кто вновь дорогу обретает И, лишь по ней шагая, будет рад. 121 Дойдя дотуда, где роса вступает В боренье с солнцем, потому что там, На ветерке, нескоро исчезает, – 124 Раскрыв ладони, к влажным муравам Нагнулся мой учитель знаменитый, И я, поняв, к нему приблизил сам 127 Слезами орошенные ланиты; И он вернул мне цвет, – уже навек, Могло казаться, темным Адом скрытый. 130 Затем мы вышли на пустынный брег, Не видевший, чтобы отсюда начал Обратный путь по волнам человек. 133 Здесь пояс он мне свил, как тот назначил. О удивленье! Чуть он выбирал Смиренный стебель, как уже маячил 136 Сейчас же новый там, где он сорвал. ПЕСНЬ ВТОРАЯ 1 Уже сближалось солнце, нам незримо, С тем горизонтом, чей полдневный круг Вершиной лег поверх Ерусалима;[659] 4 А ночь, напротив двигаясь вокруг, Взошла из Ганга и весы держала, Чтоб, одолев, их выронить из рук;[660] 7 И на щеках Авроры, что сияла Там, где я был, мерк белоалый цвет, От времени желтея обветшало. 10 Мы ждали там, где нас застал рассвет, Как те, что у распутья, им чужого, Душою движутся, а телом нет. 13 И вот, как в слое воздуха густого, На западе, над самым лоном вод, В час перед утром Марс горит багрово, 16 Так мне сверкнул – и снова да сверкнет![661] – Свет, по волнам стремившийся так скоро, Что не сравнится никакой полет. 19 Пока глаза от водного простора Я отстранял, чтобы спросить вождя, Свет ярче стал и явственней для взора. 22 По сторонам, немного погодя, Какойто белый блеск разросся чудно, Другой – под ним, отвесно нисходя. 25 Мой вождь молчал, но было уж нетрудно Узнать крыла в той первой белизне,[662] И он, поняв, кто направляет судно, 28 «Склони, склони колена! – крикнул мне. – Молись, вот ангел божий! Ты отныне Их много встретишь в горней вышине. 31 Смотри, как этот, в праведной гордыне, Ни весел не желает, ни ветрил, И правит крыльями в морской пустыне! 34 Смотри, как он их к небу устремил, Взвевая воздух вечным опереньем, Не переменным, как у смертных крыл». 37 А тот, светлея с каждым мановеньем, Господней птицей путь на нас держал; Я, дольше не выдерживая зреньем, 40 Потупил взгляд; а он к земле пристал, И челн его такой был маловесный, Что даже и волну не рассекал. 43 Там на корме стоял пловец небесный, Такой, что счастье – даже речь о нем; Вмещал сто душ и больше струг чудесный. 46 «In exitu Israël»[663] – так, в одном Сливаясь хоре, их звучало пенье, И все, что дальше говорит псалом. 49 Он дал им крестное благословенье, И все на берег кинулись гурьбой, А он уплыл, опять в одно мгновенье. 52 Толпа дичилась, видя пред собой Безвестный край, смущенная немного, Как тот, кто повстречался с новизной. 55 Уже лучи во все концы отлого Метало солнце, их стрелами сбив С небесной середины Козерога,[664] 58 Когда отряд прибывших, устремив На нас глаза, сказал нам: «Мы не знаем, Каким путем подняться на обрыв». 61 Вергилий им ответил: «С этим краем Знакомимся мы сами в первый раз; Мы тоже здесь как странники ступаем. 64 Мы прибыли немного раньше вас, Другим путем, где круча так сурова, Что вверх идти – теперь игра для нас». 67 Внимавшие, которым было ново, Что у меня дыханье на устах, Дивясь, бледнели, увидав живого. 70 Как на гонца с оливою в руках Бежит народ, чтобы узнать, в чем дело, И все друг друга давят второпях, 73 Так и толпа счастливых душ глядела В мое лицо, забыв стезю высот И чаянье прекрасного удела. 76 Одна ко мне продвинулась вперед, Объятия раскрыв так благодатно, Что я ответил тем же в свой черед. 79 О призрачные тени! Троекратно Сплетал я руки, чтоб ее обнять, И трижды приводил к груди обратно. 82 Смущенья ли была на мне печать, Но тень с улыбкой стала отдаляться, И ей вослед я двинулся опять. 85 Она сказала мне не приближаться; И тут ее узнал я[665] без труда И попросил на миг со мной остаться. 88 «Как в смертном теле, – молвил дух тогда, – Тебя любил я, так люблю вне тленья. Я подожду; а ты идешь куда?» 91 «Каселла мой, я ради возвращенья Сюда же, – я сказал, – предпринял путь.[666] Но где ты был, чтоб так терять мгновенья?» 94 И он: «Обидой не было отнюдь, Что он, беря, кого ему угодно, Мне долго к прочим не давал примкнуть; 97 Его желанье с высшей правдой сходно. Теперь уже три месяца подряд Всех, кто ни просит, он берет свободно. 100 И вот на взморье устремляя взгляд, Где Тибр горчает, растворясь в соленом, Я был им тоже в этом устье взят, 103 Куда сейчас он реет водным лоном И где всегда в ладью сажает он Того, кто не притянут Ахероном».[667] 106 И я: «О если ты не отлучен От дара нежных песен, что, бывало, Мою тревогу погружали в сон, 109 Не уходи, не спев одну сначала Моей душе, которая, в земной Идущая личине, так устала!» 112 «Любовь, в душе беседуя со мной»,[668] – Запел он так отрадно, что отрада И до сих пор звенит во мне струной. 115 Мой вождь, и я, и душ блаженных стадо Так радостно ловили каждый звук, Что лучшего, казалось, нам не надо. 118 Мы напряженно слушали, но вдруг Величественный старец[669] крикнул строго: «Как, мешкотные души? Вам досуг 121 Вот так стоять, когда вас ждет дорога? Спешите в гору, чтоб очистить взор От шелухи, для лицезренья бога». 124 Как голуби, клюя зерно иль сор, Толпятся, молчаливые, без счета, Прервав свой горделивый разговор, 127 Но, если вдруг их испугает чтото, Тотчас бросают корм и прочь спешат, Затем что поважней у них забота, – 130 Так, видел я, неопытный отряд, Бросая песнь, спешил к пяте обрыва, Как человек, идущий наугад; 133 Была и наша поступь тороплива. ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ 1 В то время как внезапная тревога Гнала их россыпью к подножью скал, Где правда нас испытывает строго, 4 Я верного вождя не покидал: Куда б я устремился, одинокий? Кто путь бы мне к вершине указал? 7 Я чувствовал его самоупреки.[670] О совесть тех, кто праведен и благ, Тебе и малый грех – укол жестокий! 10 Когда от спешки он избавил шаг, Которая в движеньях неприглядна, Мой ум, который все не мог никак 13 Расшириться, опять раскрылся жадно, И я глаза возвел перед стеной, От моря к небу взнесшейся громадно. 16 Свет солнца, багровевшего за мной, Ломался впереди меня, покорный Преграде тела, для него сплошной. 19 Я оглянулся с дрожью непритворной, Боясь, что брошен, – у моих лишь ног Перед собою видя землю черной. 22 И пестун мой: «Ты ль это думать мог? – Сказал, ко мне всей грудью обращенный. – Ведь я с тобой, и ты не одинок. 25 Теперь уж вечер там, где, погребенный, Почиет прах, мою кидавший тень, Неаполю Брундузием врученный.[671] 28 И если я не затмеваю день, Дивись не больше, чем кругам небесным: Луч, не затмясь, проходит сквозь их сень. 31 Но стуже, зною и скорбям телесным Подвержены и наши существа Могуществом, в путях своих безвестным. 34 Поистине безумные слова – Что постижима разумом стихия Единого в трех лицах естества! 37 О род людской, с тебя довольно quia;[672] Будь все открыто для очей твоих, То не должна бы и рождать Мария. 40 Ты[673] видел жажду тщетную таких, Которые бы жажду утолили, Навеки мукой ставшую для них. 43 Средь них Платон и Аристотель были И многие». И взор потупил он И смолк, и горечь губы затаили. 46 Уже пред нами вырос горный склон, Стеной такой обрывистой и строгой, Что самый ловкий был бы устрашен. 49 Какой бы дикой ни идти дорогой От Лериче к Турбии,[674] худший путь В сравненье был бы лестницей пологой. 52 «Как знать, не ниже ль круча гденибудь, – Сказал, остановившись, мой вожатый, – Чтоб мог бескрылый на нее шагнуть?» 55 Пока он медлил, думою объятый, Не отрывая взоров от земли, А я оглядывал крутые скаты, – 58 Я увидал левей меня, вдали, Чреду теней,[675] к нам подвигавших ноги, И словно тщетно, – так все тихо шли. 61 «Взгляни, учитель, и рассей тревоги, – Сказал я. – Вот, кто нам подаст совет, Когда ты сам не ведаешь дороги». 64 Взглянув, он молвил радостно в ответ: «Пойдем туда, они идут так вяло. Мой милый сын, вот путеводный свет». 67 Толпа от нас настолько отстояла И после нашей тысячи шагов, Что бросить камень – только бы достало, 70 Как вдруг они, всем множеством рядов Теснясь к скале, свой ход остановили, Как тот, кто шел и стал, дивясь без слов. 73 «Почивший в правде, – молвил им Вергилий, – Сонм избранных, и мир да примет вас, Который, верю, все вы заслужили, 76 Скажите, есть ли тут тропа для нас, Чтоб мы могли подняться кручей склона; Для умудренных ценен каждый час». 79 Как выступают овцы из загона, Одна, две, три, и головы, и взгляд Склоняя робко до земного лона, 82 И все гурьбой за первою спешат, А стоит стать ей, – смирно, ряд за рядом, Стоят, не зная, почему стоят; 85 Так шедшие перед блаженным стадом К нам приближались с думой на челе, С достойным видом и смиренным взглядом. 88 Но видя, что пред ними на земле Свет разорвался и что тень сплошная Ложится вправо от меня к скале, 91 Ближайшие смутились, отступая; И весь шагавший позади народ Отхлынул тоже, почему – не зная. 94 «Не спрошенный, отвечу наперед, Что это – человеческое тело; Поэтому и свет к земле нейдет. 97 Не удивляйтесь, но поверьте смело: Иная воля, свыше нисходя, Ему осилить этот склон велела». 100 На эти речи моего вождя: «Идите с нами», – было их ответом; И показали, руку отводя. 103 «Кто б ни был ты, – сказал один при этом, – Вглядись в меня, пока мы так идем! Тебе знаком я по земным приметам?» 106 И я свой взгляд остановил на нем; Он русый был, красивый, взором светел, Но бровь была рассечена рубцом. 109 Я искренне неведеньем ответил. «Смотри!» – сказал он, и смертельный след Я против сердца у него заметил. 112 И он сказал с улыбкой: «Я Манфред, Родимый внук Костанцы величавой;[676] Вернувшись в мир, прошу, снеси привет 115 Моей прекрасной дочери, чьей славой Сицилия горда и Арагон,[677] И ей скажи не верить лжи лукавой.[678] 118 Когда я дважды насмерть был пронзен, Себя я предал, с плачем сокрушенья, Тому, которым и злодей прощен, 121 Мои ужасны были прегрешенья; Но милость божья рада всех обнять, Кто обратится к ней, ища спасенья. 124 Умей страницу эту прочитать[679] Козенцский пастырь, Климентом избранный На то, чтобы меня, как зверя, гнать, – 127 Мои останки были бы сохранны У моста Беневенто, как в те дни, Когда над ними холм воздвигся бранный. 130 Теперь в изгнанье брошены они Под дождь и ветер, там, где Верде льется,[680] Куда он снес их, погасив огни.[681] 133 Предвечная любовь не отвернется И с тех, кто ими проклят, снимет гнет, Пока хоть листик у надежды бьется. 136 И все ж, кто в распре с церковью умрет, Хотя в грехах успел бы повиниться, Тот у подножья этой кручи ждет, 139 Доколе тридцать раз не завершится Срок отщепенства, если этот срок Молитвами благих не сократится. 142 Ты видишь сам, как ты бы мне помог, Моей Костанце возвестив, какая Моя судьба, какой на мне зарок: 145 От тех, кто там, вспомога здесь большая». ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Когда одну из наших сил душевных[682] Боль или радость поглотит сполна, То, отрешась от прочих чувств вседневных, 4 Душа лишь этой силе отдана; И тем опровержимо заблужденье,[683] Что в нас душа пылает не одна. 7 Поэтому, как только слух иль зренье К чемулибо всю душу обратит, Забудется и времени теченье; 10 За ним одна из наших сил следит, А душу привлекла к себе другая; И эта связана, а та парит.[684] 13 Дивясь Манфреду и ему внимая, Я в этом убедился без труда, Затем что солнце было выше края 16 На добрых пятьдесят долей,[685] когда Все эти души, там, где было надо, Вскричали дружно: «Вам теперь сюда». 19 Подчас крестьянин в изгороди сада Пошире щель заложит шипняком, Когда темнеют гроздья винограда, 22 Чем оказался ход, куда вдвоем Мой вождь и я за ним проникли с воли, Оставив тех идти своим путем. 25 К СанЛео всходят и нисходят к Ноли, И пеший след к Бисмантове ведет;[686] А эту кручу крылья побороли, – 28 Я разумею окрыленный взлет Великой жажды, вслед вождю, который Дарил мне свет и чаянье высот. 31 Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый; Мы подымались между сжатых скал, Для ног и рук ища себе опоры. 34 Когда мы вышли, как на плоский вал, На верхний край стремнины оголенной: «Куда идти, учитель?» – я сказал. 37 И он: «Иди стезею неуклонной Все в гору вслед за мной, покуда нам Не встретится водитель умудренный». 40 К вершине было не взнестись очам, А склон был много круче полуоси, Секущей четверть круга пополам. 43 Устав, я начал, медля на откосе: «О мой отец, постой и оглянись, Ведь я один останусь на утесе!» 46 А он: «Мой сын, дотуда дотянись!» И указал мне на уступ над нами, Который кругом опоясал высь. 49 И я, подстегнутый его словами, Напрягся, чтобы взлезть хоть какнибудь, Пока на кромку не ступил ногами. 52 И здесь мы оба сели отдохнуть, Лицом к востоку; путник ослабелый С отрадой смотрит на пройденный путь. 55 Я глянул вниз, на берег опустелый, Затем на небо, и не верил глаз, Что солнце слева посылает стрелы. 58 Поэт заметил, как меня потряс Нежданный вид, что колесница света Загородила Аквилон[687] от нас. 61 «Будь Диоскуры, – молвил он на это, – В соседстве с зеркалом, светящим так, Что все кругом в его лучи одето, 64 Ты видел бы, что рдяный Зодиак Еще тесней вблизи Медведиц кружит, Пока он держит свой старинный шаг.[688] 67 Причину же твой разум обнаружит, Когда себе представит, что Сион[689] Горе, где мы, противоточьем служит; 70 И там, и здесь – отдельный небосклон, Но горизонт один; и та дорога, Где несчастливый правил Фаэтон,[690] 73 Должна лежать вдоль звездного чертога Здесь – с этой стороны, а там – с другой, Когда ты в этом разберешься строго». 76 «Впервые, – я сказал, – учитель мой, Я вижу с ясностью столь совершенной Казавшееся мне покрытым тьмой, – 79 Что средний круг вращателя вселенной,[691] Или экватор, как его зовут, Между зимой и солнцем неизменный, 82 По сказанной причине виден тут К полночи, а еврейскому народу Был виден к югу. Но, когда не в труд, 85 Поведай, сколько нам осталось ходу; Так высока скалистая стена, Что выше зренья всходит к небосводу». 88 И он: «Гора так мудро сложена, Что поначалу подыматься трудно; Чем дальше вверх, тем мягче крутизна. 91 Поэтому, когда легко и чудно Твои шаги начнут тебя нести, Как по теченью нас уносит судно, 94 Тогда ты будешь у конца пути. Там схлынут и усталость, и забота. Вот все, о чем я властен речь вести». 97 Чуть он умолк, вблизи промолвил ктото: «Пока дойдешь, не раз, да и не два, Почувствуешь, что и присесть охота». 100 Мы, обернувшись на его слова, Увидели левей валун огромный, Который не заметили сперва. 103 Мы подошли; за ним в тени укромной Расположились люди;[692] вид их был, Как у людей, объятых ленью томной. 106 Один сидел как бы совсем без сил: Руками он обвил свои колени И голову меж ними уронил. 109 И я сказал при виде этой тени: «Мой милый господин, он так ленив, Как могут быть родные братья лени». 112 Он обернулся и, глаза скосив, Поверх бедра взглянул на нас устало; Потом сказал: «Лезь, если так ретив!» 115 Тут я узнал его; хотя дышала Еще с трудом взволнованная грудь, Мне это подойти не помешало. 118 Тогда он поднял голову чутьчуть, Сказав: «Ты разобрал, как мир устроен, Что солнце влево может повернуть?» 121 Поистине улыбки был достоин Его ленивый вид и вялый слог. Я начал так: «Белаква,[693] я спокоен 124 За твой удел; но что тебе за прок Сидеть вот тут? Ты ждешь еще народа Иль просто впал в обычный свой порок?» 127 И он мне: «Брат, что толку от похода? Меня не пустит к мытарствам сейчас Господня птица, что сидит у входа, 130 Пока вокруг меня не меньше раз, Чем в жизни, эта твердь свой круг опишет, Затем что поздний вздох мне душу спас; 133 И лишь сердца, где милость божья дышит, Могли бы мне молитвами помочь. В других – что пользы? Небо их не слышит». 136 А между тем мой спутник, идя прочь, Звал сверху: «Где ты? Солнце уж высоко И тронуло меридиан, а ночь 139 У берега ступила на Моррокко».[694] ПЕСНЬ ПЯТАЯ 1 Вослед вождю, послушливым скитальцем, Я шел от этих теней все вперед, Когда одна, указывая пальцем, 4 Вскричала: «Гляньте, слева луч нейдет От нижнего, да и по всем приметам Он словно как живой себя ведет!» 7 Я обратил глаза при слове этом И увидал, как изумлен их взгляд Мной, только мной и рассеченным светом. 10 «Ужель настолько, чтоб смотреть назад, – Сказал мой вождь, – они твой дух волнуют? Не все ль равно, что люди говорят? 13 Иди за мной, и пусть себе толкуют! Как башня стой, которая вовек Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют! 16 Цель от себя отводит человек, Сменяя мысли каждое мгновенье: Дав ход одной, другую он пресек». 19 Что мог бы я промолвить в извиненье? «Иду», – сказал я, краску чуя сам, Дарующую иногда прощенье. 22 Меж тем повыше, идя накрест нам, Толпа людей на склоне появилась И пела «Miserere»[695], по стихам. 25 Когда их зренье точно убедилось, Что сила света сквозь меня не шла, Их песнь глухим и долгим «О!» сменилась. 28 И тотчас двое, как бы два посла, Сбежали к нам спросить: «Скажите, кто вы, И участь вас какая привела?» 31 И мой учитель: «Мы сказать готовы, Чтоб вы могли поведать остальным, Что этот носит смертные покровы. 34 И если их смутила тень за ним, То все объяснено таким ответом: Почтенный ими, он поможет им». 37 Я не видал, чтоб в сумраке нагретом Горящий пар[696] быстрей прорезал высь Иль облака заката поздним летом, 40 Чем те наверх обратно поднялись; И тут на нас помчалась вся их стая, Как взвод несется, ускоряя рысь. 43 «Сюда их к нам валит толпа густая, Чтобы тебя просить, – сказал поэт. – Иди все дальше, на ходу внимая». 46 «Душа, идущая в блаженный свет В том образе, в котором в жизнь вступала, Умерь свой шаг! – они кричали вслед. – 49 Взгляни на нас: быть может, нас ты знала И весть прихватишь для земной страны? О, не спеши так! Выслушай сначала! 52 Мы были все в свой час умерщвлены И грешники до смертного мгновенья, Когда, лучом небес озарены, 55 Покаялись, простили оскорбленья И смерть прияли в мире с божеством, Здесь нас томящим жаждой лицезренья». 58 И я: «Из вас никто мне не знаком; Чему, скажите, были бы вы рады, И я, по мере сил моих, во всем 61 Готов служить вам, ради той отрады, К которой я, по следу этих ног, Из мира в мир иду сквозь все преграды». 64 Один сказал: «К чему такой зарок? В тебе мы верим доброму желанью, И лишь бы выполнить его ты мог! 67 Я, первый здесь взывая к состраданью, Прошу тебя: когда придешь к стране, Разъявшей землю Карла и Романью, 70 И будешь в Фано, вспомни обо мне, Чтоб за меня воздели к небу взоры, Дабы я мог очиститься вполне. 73 Я сам оттуда; но удар, который Дал выход крови, где душа жила, Я встретил там, где властны Антеноры[697] 76 И где вовеки я не чаял зла; То сделал Эсте, чья враждебность шире Пределов справедливости была. 79 Когда бы я бежать пустился к Мире[698], В засаде под Орьяко очутясь, Я до сих пор дышал бы в вашем мире, 82 Но я подался в камыши и грязь; Там я упал; и видел, как в трясине Кровь жил моих затоном разлилась».[699] 85 Затем другой: «О, да взойдешь к вершине, Надежду утоленную познав, И да не презришь и мою отныне! 88 Я был Бонконте, Монтефельтрский граф. Забытый всеми, даже и Джованной[700], Я здесь иду среди склоненных глав». 91 И я: «Что значил этот случай странный, Что с Кампальдино ты исчез тогда И гдето спишь в могиле безымянной?»[701] 94 «О! – молвил он. – Есть горная вода, Аркьяно;[702] ею, вниз от Камальдоли, Изрыта Казентинская гряда. 97 Туда, где имя ей не нужно боле,[703] Я, ранен в горло, идя напрямик, Пришел один, окровавляя поле. 100 Мой взор погас, и замер мой язык На имени Марии; плоть земная Осталась там, где я к земле поник. 103 Знай и поведай людям: ангел Рая Унес меня, и ангел адских врат Кричал: «Небесный! Жадностьто какая! 106 Ты вечное себе присвоить рад И, пользуясь слезинкой, поживиться; Но прочего меня уж не лишат!»[704] 109 Ты знаешь сам, как в воздухе клубится Пар, снова истекающий водой, Как только он, поднявшись, охладится. 112 Ум сочетая с волей вечно злой И свой природный дар пуская в дело, Бес двинул дым и ветер над землей. 115 Долину он, как только солнце село, От Пратоманьо до большой гряды[705] Покрыл туманом; небо почернело, 118 И воздух стал тяжелым от воды; Пролился дождь, стремя по косогорам Все то, в чем почве не было нужды, 121 Потоками свергаясь в беге скором К большой реке,[706] переполняя дол И все сметая бешеным напором. 124 Мой хладный труп на берегу нашел Аркьяно буйный; как обломок некий, Закинул в Арно; крест из рук расплел, 127 Который я сложил, смыкая веки: И, мутною обвив меня волной, Своей добычей[707] придавил навеки». 130 «Когда ты возвратишься в мир земной И тягости забудешь путевые, – Сказала третья тень вослед второй, – 133 То вспомни также обо мне, о Пии! Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла, Как знает тот, кому во дни былые 136 Я, обручаясь, руку отдала».[708] ПЕСНЬ ШЕСТАЯ 1 Когда кончается игра в три кости, То проигравший снова их берет И мечет их один, в унылой злости; 4 Другого провожает весь народ; Кто спереди зайдет, кто сзади тронет, Кто сбоку за себя словцо ввернет. 7 А тот идет и только ухо клонит; Подаст кому, – идти уже вольней, И так он понемногу всех разгонит. 10 Таков был я в густой толпе теней, Чье множество казалось превелико, И, обещая, управлялся с ней. 13 Там аретинец был, чью жизнь так дико Похитил Гин ди Такко;[709] рядом был В погоне утонувший;[710] Федерико 16 Новелло,[711] руки протянув, молил; И с ним пизанец, некогда явивший В незлобивом Марцукко столько сил;[712] 19 Граф Орсо[713] был средь них; был дух, твердивший, Что он враждой и завистью убит, Его безвинно с телом разлучившей, – 22 Пьер де ла Бросс; брабантка пусть спешит, Пока жива, с молитвами своими, Не то похуже стадо ей грозит.[714] 25 Когда я, наконец, расстался с ними, Просившими, чтобы просил другой, Дабы скорей им сделаться святыми, 28 Я начал так: «Я помню, светоч мой, Ты отрицал, в стихе, тобою спетом,[715] Что суд небес смягчается мольбой; 31 А эти люди просят лишь об этом. Иль их надежда тщетна, или мне Твои слова не озарились светом?» 34 Он отвечал: «Они ясны вполне, И этих душ надежда не напрасна, Когда мы трезво поглядим извне. 37 Вершина правосудия согласна, Чтоб огнь любви[716] мог уничтожить вмиг Долг, ими здесь платимый повсечасно. 40 А там, где стих мой у меня возник,[717] Молитва не служила искупленьем, И звук ее небес бы не достиг. 43 Но не смущайся тягостным сомненьем: Спроси у той, которая прольет Свет между истиной и разуменьем. 46 Ты понял ли, не знаю: речь идет О Беатриче. Там, на выси горной, Она с улыбкой, радостная, ждет». 49 И я: «Идем же поступью проворной; Уже и сам я меньше утомлен, А видишь – склон оделся тенью черной». 52 «Сегодня мы пройдем, – ответил он, – Как можно больше; много – не придется, И этим ты напрасно обольщен. 55 Пока взойдешь, не раз еще вернется Тот, кто сейчас уже горой закрыт, Так что и луч вокруг тебя не рвется. 58 Но видишь – там какойто дух сидит, Совсем один, взирая к нам безгласно; Он скажет нам, где краткий путь лежит». 61 Мы шли к нему. Как гордо и бесстрастно Ты ждал, ломбардский дух,[718] и лишь едва Водил очами, медленно и властно! 64 Он про себя таил свои слова, Нас, на него идущих озирая С осанкой отдыхающего льва. 67 Вождь подошел к нему узнать, какая Удобнее дорога к вышине; Но он, на эту речь не отвечая – 70 Спросил о нашей жизни и стране. Чуть «Мантуя…» успел сказать Вергилий, Как дух, в своей замкнутый глубине, 73 Встал, и уста его проговорили: «О мантуанец, я же твой земляк, Сорделло!» И они объятья слили. 76 Италия, раба, скорбей очаг, В великой буре судно без кормила, Не госпожа народов, а кабак! 79 Здесь доблестной душе довольно было Лишь звук услышать милой стороны, Чтобы она сородича почтила; 82 А у тебя не могут без войны Твои живые, и они грызутся, Одной стеной и рвом окружены. 85 Тебе, несчастной, стоит оглянуться На берега твои и города: Где мирные обители найдутся? 88 К чему тебе подправил повода Юстиниан, когда седло пустует? Безуздой, меньше было бы стыда.[719] 91 О вы, кому молиться долженствует, Так чтобы Кесарь не слезал с седла, Как вам господне слово указует, – 94 Вы видите, как эта лошадь зла, Уже не укрощаемая шпорой С тех пор, как вы взялись за удила?[720] 97 И ты, Альберт немецкий,[721] ты, который Был должен утвердиться в стременах, А дал ей одичать, – да грянут скорой 100 И правой карой звезды в небесах На кровь твою, как ни на чью доселе, Чтоб твой преемник ведал вечный страх! 103 Затем что ты и твой отец терпели, Чтобы пустынней стал имперский сад,[722] А сами, сидя дома, богатели. 106 Приди, беспечный, кинуть только взгляд: Мональди, Филиппески, Каппеллетти, Монтекки, – те в слезах, а те дрожат! 109 Приди, взгляни на знать свою, на эти Насилия, которые мы зрим, На Сантафьор[723] во мраке лихолетий! 112 Приди, взгляни, как сетует твой Рим, Вдова, в слезах зовущая супруга: «Я Кесарем покинута моим!» 115 Приди, взгляни, как любят все друг друга! И, если нас тебе не жаль, приди Хоть устыдиться нашего недуга! 118 И, если смею, о верховный Дий,[724] За род людской казненный казнью крестной, Свой правый взор от нас не отводи! 121 Или, быть может, в глубине чудесной Твоих судеб ты нам готовишь клад Великой радости, для нас безвестной? 124 Ведь города Италии кишат Тиранами, и в образе клеврета[725] Любой мужик пролезть в Марцеллы[726] рад. 127 Флоренция моя, тебя все это Касаться не должно, ты – вдалеке, В твоем народе каждый – муж совета! 130 У многих правда – в сердце, в тайнике, Но необдуманно стрельнуть – боятся; А у твоих она на языке 133 Иные общим делом тяготятся; А твой народ, участливый к нему, Кричит незваный: «Я согласен взяться!» 136 Ликуй же ныне, ибо есть чему: Ты мирна, ты разумна, ты богата! А что я прав, то видно по всему. 139 И Спарта, и Афины, где когдато Гражданской правды занялась заря, Перед тобою – малые ребята: 142 Тончайшие уставы мастеря, Ты в октябре примеришь их, бывало, И сносишь к середине ноября. 145 За краткий срок ты сколько раз меняла Законы, деньги, весь уклад и чин И собственное тело обновляла! 148 Опомнившись хотя б на миг один, Поймешь сама, что ты – как та больная, Которая не спит среди перин, 151 Ворочаясь и отдыха не зная. ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ 1 И трижды, и четырежды успело Приветствие возникнуть на устах, Пока не молвил, отступив, Сорделло: 4 «Вы кто?» – «Когда на этих высотах Достойные спастись еще не жили, Октавиан[727] похоронил мой прах. 7 Без правой веры был и я, Вергилий, И лишь за то утратил вечный свет». Так на вопрос слова вождя гласили. 10 Как тот, кто сам не знает – явь иль бред То дивное, что перед ним предстало, И, сомневаясь, говорит: «Есть… Нет…» – 13 Таков был этот; изумясь сначала, Он взор потупил и ступил вперед Обнять его, как низшему пристало. 16 «О свет латинян, – молвил он, – о тот, Кто нашу речь вознес до полной власти, Кто город мой почтил из рода в род, 19 Награда мне иль милость в этом счастье? И если просьбы мне разрешены, Скажи: ты был в Аду? в которой части?» 22 «Сквозь все круги отверженной страны, – Ответил вождь мой, – я сюда явился; От неба силы были мне даны. 25 Не делом, а неделаньем лишился[728] Я Солнца, к чьим лучам стремишься ты; Его я поздно ведать научился.[729] 28 Есть край внизу,[730] где скорбь – от темноты, А не от мук, и в сумраках бездонных Не возгласы, а вздохи разлиты. 31 Там я, – среди младенцев, уязвленных Зубами смерти в свете их зари, Но от людской вины не отрешенных; 34 Там я, – средь тех, кто не облекся в три Святые добродетели и строго Блюл остальные, их нося внутри.[731] 37 Но как дойти скорее до порога Чистилища? Не можешь ли ты нам Дать указанье, где лежит дорога?» 40 И он: «Скитаться здесь по всем местам, Вверх и вокруг, я не стеснен нимало. Насколько в силах, буду спутник вам. 43 Но видишь – время позднее настало, А ночью вверх уже нельзя идти; Пора наметить место для привала. 46 Здесь души есть направо по пути, Которые тебе утешат очи, И я готов тебя туда свести». 49 «Как так? – ответ был. – Если кто средь ночи Пойдет наверх, ему не даст другой? Иль просто самому не станет мочи?» 52 Сорделло по земле черкнул рукой, Сказав: «Ты видишь? Стоит солнцу скрыться, И ты замрешь пред этою чертой; 55 Причем тебе не даст наверх стремиться Не что другое, как ночная тень; Во тьме бессильем воля истребится. 58 Но книзу, со ступени на ступень, И вкруг горы идти легко повсюду, Пока укрыт за горизонтом день». 61 Мой вождь внимал его словам, как чуду, И отвечал: «Веди же нас туда, Где ты сказал, что я утешен буду». 64 Мы двинулись в дорогу, и тогда В горе открылась выемка, такая, Как здесь в горах бывает иногда. 67 «Войдем туда, – сказала тень благая, – Где горный склон как бы раскрыл врата, И там пробудем, утра ожидая». 70 Тропинка, не ровна и не крута, Виясь, на край долины приводила, Где меньше половины высота.[732] 73 Сребро и злато, червлень и белила, Отколотый недавно изумруд, Лазурь и дубсветляк превосходило 76 Сияние произраставших тут Трав и цветов и верх над ними брало, Как бо́льшие над ме́ньшими берут. 79 Природа здесь не только расцвечала, Но как бы некий непостижный сплав Из сотен ароматов создавала. 82 «Salve, Regina,»[733] – меж цветов и трав Толпа теней,[734] внизу сидевших, пела, Незримое убежище избрав.
85 «Покуда солнце все еще не село, – Наш мантуанский спутник нам сказал, – Здесь обождать мы с вами можем смело. 88 Вы разглядите, став на этот вал, Отчетливей их лица и движенья, Чем если бы их сонм вас окружал. 91 Сидящий выше, с видом сокрушенья О том, что он призваньем пренебрег, И губ не раскрывающий для пенья, – 94 Был кесарем Рудольфом, и он мог Помочь Италии воскреснуть вскоре,[735] А ныне этот час опять далек.[736] 97 Тот, кто его ободрить хочет в горе, Царил в земле, где воды вдоль дубрав Молдава в Лабу льет, а Лаба в море. 100 То Оттокар; он из пелен не встав, Был доблестней, чем бороду наживший Его сынок, беспутный Венцеслав.[737] 103 И тот курносый, в разговор вступивший С таким вот благодушным добряком, Пал, как беглец, честь лилий омрачивший. 106 И как он в грудь колотит кулаком! А этот, щеку на руке лелея, Как на постели, вздохи шлет тайком. 109 Отец и тесть французского злодея, Они о мерзости его скорбят, И боль язвит их, в сердце пламенея.[738] 112 А этот кряжистый, поющий в лад С тем носачом, смотрящим величаво, Был опоясан, всем, что люди чтят.[739] 115 И если бы в руках была держава У юноши[740], сидящего за ним, Из чаши в чашу перешла бы слава, 118 Которой не хватило остальным: Хоть воцарились Яков с Федериком, Все то, что лучше, не досталось им.[741] 121 Не часто доблесть, данная владыкам, Восходит в ветви; тот ее дарит, Кто может все в могуществе великом. 124 Носач изведал так же этот стыд, Как с ним поющий Педро знаменитый: Прованс и Пулья стонут от обид.[742] 127 Он выше был, чем отпрыск, им отвитый, Как и Костанца мужем пославней, Чем были Беатриче с Маргеритой.[743] 130 А вот смиреннейший из королей, Английский Генрих, севший одиноко; Счастливее был рост его ветвей.[744] 133 Там, ниже всех, где дол лежит глубоко, Маркиз Гульельмо подымает взгляд; Алессандрия за него жестоко 136 Казнила Канавез и Монферрат».[745] ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ 1 В тот самый час, когда томят печали Отплывших вдаль и нежит мысль о том, Как милые их утром провожали, 4 А новый странник на пути своем Пронзен любовью, дальний звон внимая, Подобный плачу над умершим днем, – 7 Я начал, слух невольно отрешая,[746] Следить, как средь теней встает одна, К вниманью мановеньем приглашая. 10 Сложив и вскинув кисти рук, она Стремила взор к востоку и, казалось, Шептала богу: «Я одним полна». 13 «Te lucis ante»,[747] – с уст ее раздалось Так набожно, и так был нежен звук, Что о себе самом позабывалось. 16 И, набожно и нежно, весь их круг С ней до конца исполнил песнопенье, Взор воздымая до верховных дуг.[748] 19 Здесь в истину вонзи, читатель, зренье; Покровы так прозрачны, что сквозь них Уже совсем легко проникновенье.[749] 22 Я видел: сонм властителей земных, С покорно вознесенными очами, Как в ожиданье, побледнев, затих. 25 И видел я: два ангела, над нами Спускаясь вниз, держали два клинка, Пылающих, с неострыми концами. 28 И, зеленее свежего листка, Одежда их, в ветру зеленых крылий, Вилась вослед, волниста и легка. 31 Один слетел чуть выше, чем мы были, Другой – на обращенный к нам откос, И так они сидевших окаймили. 34 Я различал их русый цвет волос, Но взгляд темнел, на лицах их почия, И яркости чрезмерной я не снес. 37 «Они сошли из лона, где Мария, – Сказал Сорделло, – чтобы дол стеречь, Затем что близко появленье змия». 40 И я, не зная, как себя беречь, Взглянул вокруг и поспешил укрыться, Оледенелый, возле верных плеч. 43 И вновь Сорделло: «Нам пора спуститься И славным теням о себе сказать; Им будет радость с вами очутиться». 46 Я, в три шага, ступил уже на гладь; И видел, как одна из душ взирала Все на меня, как будто чтоб узнать. 49 Уже и воздух почернел немало, Но для моих и для ее очей Он все же вскрыл то, что таил сначала. 52 Она ко мне подвинулась, я – к ней. Как я был счастлив, Нино благородный,[750] Тебя узреть не между злых теней! 55 Приветствий дань была поочередной; И он затем: «К прибрежью под горой Давно ли ты приплыл пустыней водной?» 58 «О, – я сказал, – я вышел пред зарей Из скорбных мест и жизнь влачу земную, Хоть, идя так, забочусь о другой». 61 Из уст моих услышав речь такую, Он и Сорделло подались назад, Дивясь тому, о чем я повествую. 64 Один к Вергилию направил взгляд, Другой – к сидевшим, крикнув: «Встань, Куррадо[751]! Взгляни, как бог щедротами богат!» 67 Затем ко мне: «Ты, избранное чадо, К которому так милостив был тот, О чьих путях и мудрствовать не надо, – 70 Скажи в том мире, за простором вод, Чтоб мне моя Джованна[752] пособила Там, где невинных верный отклик ждет. 73 Должно быть, мать ее меня забыла, Свой белый плат носив недолгий час, А в нем бы ей, несчастной, лучше было.[753] 76 Ее пример являет напоказ, Что пламень в женском сердце вечно хочет Глаз и касанья, чтобы он не гас. 79 И не такое ей надгробье прочит Ехидна, в бой ведущая Милан, Какое создал бы галлурский кочет».[754] 82 Так вел он речь, и взор его и стан Несли печать горячего порыва, Которым дух пристойно обуян. 85 Мои глаза стремились в твердь пытливо, Туда, где звезды обращают ход, Как сердце колеса, неторопливо. 88 И вождь: «О сын мой, что твой взор влечет?» И я ему: «Три этих ярких света, Зажегшие вкруг остья небосвод». 91 И он: «Те, что ты видел до рассвета, Склонились, все четыре, в должный срок; На смену им взошло трехзвездье это».[755] 94 Сорделло вдруг его к себе привлек, Сказав: «Вот он! Взгляни на супостата!» – И указал, чтоб тот увидеть мог. 97 Там, где стена расселины разъята, Была змея, похожая на ту, Что Еве горький плод дала когдато. 100 В цветах и травах бороздя черту, Она порой свивалась, чтобы спину Лизнуть, как зверь наводит красоту. 103 Не видев сам, я речь о том откину, Как тот и этот горний ястреб взмыл; Я их полет застал наполовину. 106 Едва заслыша взмах зеленых крыл, Змей ускользнул, и каждый ангел снова Взлетел туда же, где он прежде был. 109 А тот, кто подошел к нам после зова Судьи, все это время напролет Следил за мной и не промолвил слова. 112 «Твой путеводный светоч да найдет, – Он начал, – нужный воск в твоей же воле, Пока не ступишь на финифть высот! 115 Когда ты ведаешь хоть в малой доле Про Вальдимагру и про те края, Подай мне весть о дедовском престоле. 118 Куррадо Маласпина звался я; Но Старый – тот другой, он был мне дедом;[756] Любовь к родным светлеет здесь моя». 121 «О, – я сказал, – мне только по беседам Знаком ваш край; но разве угол есть Во всей Европе, где б он не был ведом? 124 Ваш дом стяжал заслуженную честь, Почет владыкам и почет державе, И даже кто там не был, слышал весть. 127 И, как стремлюсь к вершине, так я вправе Сказать: ваш род, за что ему хвала, Кошель и меч в старинной держит славе. 130 В нем доблесть от привычки возросла, И, хоть с пути дурным главой[757] все сбито, Он знает цель и сторонится зла». 133 И тот: «Иди; поведаю открыто, Что солнце не успеет лечь семь раз Там, где Овен расположил копыта, 136 Как это мненье лестное о нас Тебе в средину головы вклинится Гвоздями, крепче, чем чужой рассказ, 139 Раз приговор не может не свершиться».[758] ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ 1 Наложница старинного Тифона Взошла белеть на утренний помост, Забыв объятья друга, и корона 4 На ней сияла из лучистых звезд, С холодным зверем сходная чертами, Который бьет нас, изгибая хвост;[759] 7 И ночь означила двумя шагами В том месте, где мы были, свой подъем, И даже третий поникал крылами,[760] 10 Когда, с Адамом в существе своем,[761] Я на траву склонился, засыпая, Там, где мы все сидели впятером[762]. 13 В тот час, когда поет, зарю встречая, Касатка, и напев ее тосклив, Как будто скорбь ей памятна былая,[763] 16 И разум наш, себя освободив От дум и сбросив тленные покровы, Бывает как бы веще прозорлив, 19 Мне снилось – надо мной орел суровый Навис, одетый в золотистый цвет, Распластанный и ринуться готовый, 22 И будто бы я там, где Ганимед, Своих покинув, дивно возвеличен, Восхищен был в заоблачный совет.[764] 25 Мне думалось: «Быть может, он привычен Разить лишь тут, где он настиг меня, А иначе к добыче безразличен». 28 Меж тем, кругами землю осеня, Он грозовым перуном опустился И взмыл со мной до самого огня.[765] 31 И тут я вместе с ним воспламенился; И призрачный пожар меня палил С такою силой, что мой сон разбился. 34 Не меньше вздрогнул некогда Ахилл, Водя окрест очнувшиеся веки И сам не зная, где он их раскрыл, 37 Когда он от Хироновой опеки Был матерью на Скир перенесен, Хотя и там его настигли греки,[766] – 40 Чем вздрогнул я, когда покинул сон Мое лицо; я побледнел и хладом Пронизан был, как тот, кто устрашен. 43 Один Вергилий был со мною рядом, И третий час сияла солнцем высь, И море расстилалось перед взглядом. 46 Мой господин промолвил: «Не страшись! Оставь сомненья, мы уже у цели; Не робостью, но силой облекись! 49 Мы, наконец, Чистилище узрели: Вот и кругом идущая скала, А вот и самый вход, подобный щели. 52 Когда заря была уже светла, А ты дремал душой, в цветах почия Среди долины, женщина пришла, 55 И так она сказала: «Я Лючия; Чтобы тому, кто спит, помочь верней, Его сама хочу перенести я». 58 И от Сорделло и других теней Тебя взяла и, так как солнце встало, Пошла наверх, и я вослед за ней. 61 И, здесь тебя оставив, указала Прекрасными очами этот вход; И тотчас ни ее, ни сна не стало».[767] 64 Как тот, кто от сомненья перейдет К познанью правды и, ее оплотом Оборонясь, решимость обретет, 67 Так ожил я; и, видя, что заботам Моим конец, вождь на крутой откос Пошел вперед, и я за ним – к высотам. 70 Ты усмотрел, читатель, как вознес Я свой предмет; и поневоле надо, Чтоб вместе с ним и я в искусстве рос. 73 Мы подошли, и, где сперва для взгляда В скале чернела только пустота, Как если трещину дает ограда, 76 Я увидал перед собой врата, И три больших ступени, разных цветом, И вратника, сомкнувшего уста. 79 Сидел он, как я различил при этом, Над самой верхней, чтобы вход стеречь, Таков лицом, что я был ранен светом. 82 В его руке был обнаженный меч, Где отраженья солнца так дробились, Что я глаза старался оберечь. 85 «Скажите с места: вы зачем явились? – Так начал он. – Кто вам дойти помог? Смотрите, как бы вы не поплатились!» 88 «Жена с небес, а ей знаком зарок, – Сказал мой вождь, – явив нам эти сени, Промолвила: «Идите, вот порог». 91 «Не презрите благих ее велений! – Нас благосклонный вратарь пригласил. – Придите же подняться на ступени». 94 Из этих трех уступов первый был Столь гладкий и блестящий мрамор белый, Что он мое подобье отразил; 97 Второй – шершавый камень обгорелый, Растресканный и вдоль и поперек, И цветом словно пурпур почернелый; 100 И третий, тот, который сверху лег, – Кусок порфира, ограненный строго, Огнистоалый, как кровавый ток. 103 На нем стопы покоил вестник бога; Сидел он, обращенный к ступеням, На выступе алмазного порога. 106 Ведя меня, как я хотел и сам, По плитам вверх, мне молвил мой вожатый: «Проси смиренно, чтоб он отпер нам». 109 И я, благоговением объятый, К святым стопам, моля открыть, упал, Себя рукой ударя в грудь трикраты. 112 Семь Р[768] на лбу моем он начертал Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул, Когда войдешь, след этих ран», – сказал. 115 Как если б кто сухую землю вскинул Иль разбросал золу, совсем такой Был цвет его одежд. Из них он вынул 118 Ключи – серебряный и золотой; И, белый с желтым взяв поочередно, Он сделал с дверью чаемое мной. 121 «Как только тот иль этот ключ свободно Не ходит в скважине и слаб нажим, – Сказал он нам, – то и пытать бесплодно. 124 Один ценней; но чтоб владеть другим, Умом и знаньем нужно изощриться, И узел без него неразрешим. 127 Мне дал их Петр, веля мне ошибиться Скорей впустив, чем отослав назад, Тех, кто пришел у ног моих склониться». 130 Потом, толкая створ священных врат: «Войдите, но запомните сначала, Что изгнан тот, кто обращает взгляд». 133 В тот миг, когда святая дверь вращала В своих глубоких гнездах стержни стрел Из мощного и звонкого металла, 136 Не так боролся и не так гудел Тарпей,[769] лишаясь доброго Метелла, Которого утратив – оскудел. 139 Я поднял взор, когда она взгремела, И услыхал, как сквозь отрадный гуд Далекое «Те Deum»[770] долетело. 142 И точно то же получалось тут, Что слышали мы все неоднократно, Когда стоят и под орган поют, 145 И пение то внятно, то невнятно. ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ 1 Тогда мы очутились за порогом, Заброшенным изза любви дурной,[771] Ведущей души по кривым дорогам, 4 Дверь, загремев, захлопнулась за мной; И, оглянись я на дверные своды, Что б я сказал, подавленный виной? 7 Мы подымались в трещине породы, Где та и эта двигалась стена,[772] Как набегают, чтоб отхлынуть, воды. 10 Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна, Чтоб угадать, какая в самом деле Окажется надежней сторона». 13 Вперед мы подвигались елееле, И скудный месяц, канув глубоко, Улегся раньше на своей постеле, 16 Чем мы прошли игольное ушко.[773] Мы вышли там,[774] где горный склон от края Повсюду отступил недалеко, 19 Я – утомясь, и вождь и я – не зная, Куда идти; тропа над бездной шла, Безлюднее, чем колея степная. 22 От кромки, где срывается скала, И до стены, вздымавшейся высоко, Она в три роста шириной была. 25 Докуда крылья простирало око, Налево и направо, – весь извив Дороги этой шел равно широко. 28 Еще вперед и шагу не ступив, Я, озираясь, убедился ясно, Что весь белевший надо мной обрыв 31 Был мрамор, изваянный так прекрасно, Что подражать не только Поликлет[775], Но и природа стала бы напрасно.[776] 34 Тот ангел, что земле принес обет Столь слезно чаемого примиренья И с неба вековечный снял завет, 37 Являлся нам в правдивости движенья Так живо, что ни в чем не походил На молчаливые изображенья. 40 Он, я бы клялся, «Ave!»[777] говорил Склонившейся жене благословенной, Чей ключ любовь в высотах отворил. 43 В ее чертах ответ ее смиренный, «Ессе ancilla Dei»,[778] был ясней, Чем в мягком воске образ впечатленный.[779] 46 «В такой недвижности не цепеней!» – Сказал учитель мой, ко мне стоявший Той стороной, где сердце у людей. 49 Я, отрывая взгляд мой созерцавший, Увидел за Марией, в стороне, Где находился мне повелевавший, 52 Другой рассказ, иссеченный в стене; Я стал напротив, обойдя поэта, Чтобы глазам он был открыт вполне. 55 Изображало изваянье это, Как на волах святой ковчег везут, Ужасный тем, кто не блюдет запрета. 58 И на семь хоров разделенный люд Мои два чувства вовлекал в раздоры; Слух скажет: «Нет», а зренье: «Да, поют». 61 Как и о дыме ладанном, который Там был изображен, глаз и ноздря О «да» и «нет» вели друг с другом споры. 64 А впереди священного ларя Смиренный Псалмопевец, пляс творящий, И больше был, и меньше был царя. 67 Мелхола, изваянная смотрящей Напротив из окна больших палат, Имела облик гневной и скорбящей.[780] 70 Я двинулся, чтобы насытить взгляд Другою повестью, которой вправо, Вслед за Мелхолой, продолжался ряд. 73 Там возвещалась истинная слава Того владыки римлян, чьи дела Григорий обессмертил величаво.[781] 76 Вдовица, ухватясь за удила, Молила императора Траяна И слезы, сокрушенная, лила. 79 От всадников тесна была поляна, И в золоте колеблемых знамен Орлы парили, кесарю охрана. 82 Окружена людьми со всех сторон, Несчастная звала с тоской во взоре: «Мой сын убит, он должен быть отмщен!» 85 И кесарь ей: «Повремени, я вскоре Вернусь». – «А вдруг, – вдовица говорит, Как всякий тот, кого торопит горе, – 88 Ты не вернешься?» Он же ей: «Отмстит Преемник мой». А та: «Не оправданье – Когда другой добро за нас творит». 91 И он: «Утешься! Чтя мое призванье, Я не уйду, не сотворив суда. Так требуют мой долг и состраданье».[782] 94 Кто нового не видел никогда,[783] Тот создал чудо этой речи зримой, Немыслимой для смертного труда. 97 Пока мой взор впивал, неутомимый, Смирение всех этих душ людских, Все, что изваял мастер несравнимый, 100 «Оттуда к нам, но шаг их очень тих, – Шепнул поэт, – идет толпа густая; Путь к высоте узнаем мы у них». 103 Мои глаза, которые, взирая, Пленялись созерцаньем новизны, К нему метнулись, мига не теряя. 106 Читатель, да не будут смущены Твоей души благие помышленья Тем, как господь взымает долг с вины. 109 Подумай не о тягости мученья, А о конце, о том, что крайний час Для худших мук – час грозного решенья.[784] 112 Я начал так: «То, что идет на нас, И на людей по виду непохоже, А что идет – не различает глаз». 115 И он в ответ: «Едва ль есть кара строже, И ею так придавлены они, Что я и сам сперва не понял тоже. 118 Но присмотрись и зреньем расчлени, Что движется под этими камнями: Как бьют они самих себя, взгляни!» 121 О христиане, гордые сердцами, Несчастные, чьи тусклые умы Уводят вас попятными путями! 124 Вам невдомек, что только черви мы, В которых зреет мотылек нетленный, На божий суд взлетающий из тьмы! 127 Чего возносится ваш дух надменный, Коль сами вы не разнитесь ничуть От плоти червяка несовершенной? 130 Как если истукан какойнибудь, Чтоб крыше иль навесу дать опору, Колени, скрючась, упирает в грудь 133 И мнимой болью причиняет взору Прямую боль; так, наклонясь вперед, И эти люди обходили гору. 136 Кто легче нес, а кто тяжеле гнет, И так, согбенный, двигался по краю; Но с виду терпеливейший и тот 139 Как бы взывал в слезах: «Изнемогаю!» ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ 1 И наш отец, на небесах царящий, Не замкнутый, но первенцам своим Благоволенье прежде всех дарящий, 4 Пред мощью и пред именем твоим Да склонится вся тварь, как песнью славы Мы твой сладчайший дух благодарим! 7 Да снидет к нам покой твоей державы, Затем что сам найти дорогу к ней Бессилен разум самый величавый! 10 Как, волею пожертвовав своей, К тебе взывают ангелы «Осанна»[785], Так на земле да будет у людей! 13 Да ниспошлется нам дневная манна,[786] Без коей по суровому пути Отходит вспять идущий неустанно! 16 Как то, что нам далось перенести, Прощаем мы, так наши прегрешенья И ты, не по заслугам, нам прости! 19 И нашей силы, слабой для боренья, В борьбу с врагом исконным не вводи, Но охрани от козней искушенья! 22 От них, великий боже, огради Не нас, укрытых сенью безопасной, А тех, кто там остался позади». 25 Так, о себе и нас в мольбе всечасной, Шли тени эти и несли свой гнет, Как сонное удушие ужасный, 28 Неравно бедствуя и все вперед По первой кромке медленно шагая, Пока с них тьма мирская не спадет. 31 И если там о нас печаль такая, Что здесь должны сказать и сделать те, В ком с добрым корнем воля есть благая, 34 Чтоб эти души, в легкой чистоте, Смыв принесенные отсюда пятна, Могли подняться к звездной высоте? 37 «Скажите, – и да снидут благодатно К вам суд и милость, чтоб, раскрыв крыла, Вы вознеслись отсюда безвозвратно, – 40 Где здесь тропа, которая бы шла К вершине? Если же их две иль боле, То где не так обрывиста скала? 43 Идущего со мной в немалой доле Адамово наследие гнетет, И он, при всходе медлен поневоле». 46 Ответ на эту речь, с которой тот, Кто был мой спутник, обратился к теням, Неясно было, от кого идет, 49 Но он гласил: «Есть путь к отрадным сеням; Идите с нами вправо: там, в скале, И человек взберется по ступеням. 52 Когда бы камень не давил к земле Моей строптивой шеи так сурово, Что я лицом склонился к пыльной мгле, 55 На этого безвестного живого Я бы взглянул – узнать, кто он такой, И вот об этой ноше молвить слово. 58 Я был латинянин; родитель мой – Тосканский граф Гульельм Альдобрандески; Могло к вам имя и дойти молвой. 61 Рожден от мощных предков, в древнем блеске Из славных дел, и позабыв, что мать У всех одна,[787] заносчивый и резкий, 64 Я стал людей так дерзко презирать, Что сам погиб, как это Сьена знает И знает в Кампаньятико вся чадь.[788] 67 Меня, Омберто, гордость удручает Не одного; она моих родных Сгубила всех, и каждый так страдает.[789] 70 И я несу мой груз, согбен и тих, Пока угодно богу, исполняя Средь мертвых то, что презрел средь живых». 73 Я опустил лицо мое, внимая; Один из них, – не тот, кто речь держал, – Извившись изпод каменного края, 76 Меня увидел и, узнав, позвал, С натугою стремясь вглядеться ближе В меня, который, лоб склонив, шагал. 79 И я: «Да ты же Одеризи, ты же Честь Губбьо,[790] тот, кем горды мастера «Иллюминур», как говорят в Париже!»[791] 82 «Нет, братец, в красках веселей игра У Франко из Болоньи,[792] – он ответил. – Ему и честь, моя прошла пора. 85 А будь я жив, во мне бы он не встретил Хвалителя, наверно, и поднесь; Быть первым я всегда усердно метил. 88 Здесь платят пеню за такую спесь; Не воззови я к милости Владыки, Пока грешил, – я не был бы и здесь. 91 О, тщетных сил людских обман великий, Сколь малый срок вершина зелена, Когда на смену век идет не дикий! 94 Кисть Чимабуэ[793] славилась одна, А ныне Джотто[794] чествуют без лести, И живопись того затемнена. 97 За Гвидо новый Гвидо высшей чести Достигнул в слове; может быть, рожден И тот, кто из гнезда спугнет их вместе.[795] 100 Мирской молвы многоголосый звон – Как вихрь, то слева мчащийся, то справа; Меняя путь, меняет имя он. 103 В тысячелетье так же сгинет слава И тех, кто тело ветхое совлек, И тех, кто смолк, сказав «нямням» и «вава»; 106 А перед вечным – это меньший срок, Чем если ты сравнишь мгновенье ока И то, как звездный кружится чертог.[796] 109 По всей Тоскане прогремел широко Тот, кто вот там бредет, не торопясь; Теперь о нем и в Сьене нет намека, 112 Где он был вождь, когда надорвалась Злость флорентийцев, гордая в те лета,[797] Потом, как шлюха, – втоптанная в грязь. 115 Цвет славы – цвет травы: лучом согрета, Она линяет от того как раз, Что извлекло ее к сиянью света». 118 И я ему: «Правдивый твой рассказ Смирил мне сердце, сбив нарост желаний; Но ты о ком упомянул сейчас?» 121 И он в ответ: «То Провенцан Сальвани; И здесь он потому, что захотел Держать один всю Сьену в крепкой длани. 124 Так он идет и свой несет удел, С тех пор как умер; вот оброк смиренный, Платимый каждым, кто был слишком смел». 127 И я: «Но если дух, в одежде тленной Не каявшийся до исхода лет, Обязан ждать внизу горы блаженной, – 130 Когда о нем молитвы доброй нет, – Пока срок жизни вновь не повторился, То как же этот – миновал запрет?» 133 «Когда он в полной славе находился, – Ответил дух, – то он, без лишних слов, На сьенском Кампо сесть не постыдился, 136 И там, чтоб друга вырвать из оков, В которых тот томился, Карлом взятый, Он каждой жилой был дрожать готов. 139 Мои слова, я знаю, темноваты; И в том, что скоро ты поймешь их сам, Твои соседи будут виноваты.[798] 142 За это он и не остался там».[799] ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ 1 Как вол с волом идет под игом плужным, Я шел близ этой сгорбленной души, Пока считал мой добрый пестун нужным; 4 Но чуть он мне: «Оставь его, спеши; Здесь, чтобы легче подвигалась лодка, Все паруса и весла хороши», 7 Я, как велит свободная походка, Расправил стан и стройность вновь обрел, Хоть мысль, смиряясь, поникала кротко. 10 Я двинулся и радостно пошел Вослед учителю, и путь пологий Обоим нам был явно не тяжел; 13 И он сказал мне: «Посмотри под ноги![800] Тебе увидеть ложе стоп твоих Полезно, чтоб не чувствовать дороги». 16 Как для того, чтоб не забыли их, Над мертвыми в пол вделанные плиты Являют, кто чем был среди живых, 19 Так что бывают и слезой политы, Когда воспоминание кольнет, Хоть от него лишь добрым нет защиты, 22 Так точно здесь, но лучше тех работ И по искусству много превосходней, Украшен путь, который вкруг идет. 25 Я видел – тот, кто создан благородней, Чем все творенья, молнии быстрей Свергался с неба в бездны преисподней.[801] 28 Я видел, как перуном Бриарей Пронзен с небес, и хладная громада Прижала землю тяжестью своей.[802] 31 Я видел, как Тимбрей, Марс и Паллада, В доспехах, вкруг отца, от страшных тел Гигантов падших не отводят взгляда.[803] 34 Я видел, как Немврод уныло сел И посреди трудов своих напрасных На сеннаарских гордецов глядел.[804] 37 О Ниобея, сколько мук ужасных Таил твой облик, изваяньем став, Меж семерых и семерых безгласных![805] 40 О царь Саул, на свой же меч упав, Как ты, казалось, обагрял Гелвую, Где больше нет росы, дождя и трав[806]![807] 43 О дерзкая Арахна, как живую Тебя я видел, полупауком, И ткань раздранной видел роковую![808] 46 О Ровоам, ты в облике таком Уже не грозен, страхом обуянный И в бегстве колесницею влеком![809] 49 Являл и дальше камень изваянный, Как мать свою принудил Алкмеон Проклясть убор, ей на погибель данный.[810] 52 Являл, как меч во храме занесен Двумя сынами на Сеннахирима И как, сраженный, там остался он.[811] 55 Являл, как мщенье грозное творимо И Тамириса Киру говорит: «Ты жаждал крови, пей ненасытимо!»[812] 58 Являл, как ассирийский стан бежит, Узнав, что Олоферн простерт, безглавый, А также и останков жалкий вид.[813] 61 Я видел Трою пепелищем славы; О Илион, как страшно здесь творец Являл разгром и смерть твоей державы! 64 Чья кисть повторит или чей свинец, Чаруя разум самый прихотливый, Тех черт и теней дивный образец? 67 Казался мертвый мертв, живые живы; Увидеть явь отчетливей нельзя, Чем то, что попирал я, молчаливый. 70 Кичись же, шествуй, веждами грозя, Потомство Евы, не давая взору, Склонясь, увидеть, как дурна стезя! 73 Уже мы дальше обогнули гору, И солнце дальше унеслось в пути, Чем мой плененный дух считал в ту пору, 76 Как вдруг привыкший надо мной блюсти Сказал: «Вскинь голову! – ко мне взывая. – Так отрешась, уже нельзя идти. 79 Взгляни: подходит ангел, нас встречая; А из прислужниц дня идет назад, Свой отслужив черед, уже шестая.[814] 82 Укрась почтеньем действия и взгляд, Чтоб с нами речь была ему приятна. Такого дня тебе не возвратят!» 85 Меня учил он столь неоднократно Не тратить времени, что без труда И это слово я воспринял внятно. 88 Прекрасный дух, представший нам тогда, Шел в белых ризах, и глаза светили, Как трепетная на заре звезда. 91 С широким взмахом рук и взмахом крылий, «Идите, – он сказал, – ступени тут, И вы теперь взойдете без усилий. 94 На этот зов немногие идут: О род людской, чтобы взлетать рожденный, Тебя к земле и ветерки гнетут!» 97 Он обмахнул у кручи иссеченной Мое чело тем и другим крылом[815] И обещал мне путь незатрудненный. 100 Как если вправо мы на холм идем, Где церковь смотрит на юдоль порядка[816] Над самым Рубаконтовым мостом, 103 И в склоне над площадкою площадка Устроены еще с тех давних лет, Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка,[817] – 106 Так здесь к другому кругу тесный след Ведет наверх в почти отвесном скате; Но восходящий стенами задет.[818] 109 Едва туда свернули мы: «Beati Pauperes spiritu»,[819] – раздался вдруг Напев неизреченной благодати. 112 О, как несходен доступ в новый круг Здесь и в Аду! Под звуки песнопений Вступают тут, а там – под вопли мук. 115 Я попирал священные ступени, И мне казался легче этот всход, Чем ровный путь, которым идут тени. 118 И я: «Скажи, учитель, что за гнет С меня ниспал? И силы вновь берутся, И тело от ходьбы не устает». 121 И он: «Когда все Р, что остаются На лбу твоем, хотя тусклей и те,[820] Совсем, как это первое, сотрутся, 124 Твои стопы, в стремленье к высоте, Не только поспешат неутомимо, Но будут радоваться быстроте». 127 Тогда, как тот, кому неощутимо Чтолибо прицепилось к волосам, Заметя взгляды проходящих мимо, 130 На ощупь проверяет это сам, И шарит, и находит, и руками Свершает недоступное глазам, – 133 Так я, широко поводя перстами, Из врезанных рукою ключаря Всего шесть букв нащупал над бровями; 136 Вождь улыбнулся, на меня смотря. ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ 1 Мы были на последней из ступеней, Там, где вторично срезан горный склон, Ведущий ввысь стезею очищений; 4 Здесь точно так же кромкой обведен Обрыв горы, и с первой сходна эта, Но только выгиб круче закруглен. 7 Дорога здесь резьбою не одета; Стена откоса и уступ под ней Сплошного серокаменного цвета. 10 «Ждать для того, чтоб расспросить людей, – Сказал Вергилий, – это путь нескорый, А выбор надо совершить быстрей». 13 Затем, на солнце устремляя взоры, Недвижным стержнем сделал правый бок, А левый повернул вокруг опоры. 16 «О милый свет, средь новых мне дорог К тебе зову, – сказал он. – Помоги нам, Как должно, чтобы здесь ты нам помог. 19 Тепло и день ты льешь земным долинам; И, если нас не иначе ведут, Вождя мы видим лишь в тебе едином». 22 То, что как милю исчисляют тут, Мы там прошли, не ощущая дали, Настолько воля ускоряла труд. 25 А нам навстречу духи пролетали, Хоть слышно, но невидимо для глаз, И всех на вечерю любви сзывали. 28 Так первый голос, гдето возле нас, «Vinum non habent!»[821] – молвил, пролетая, И вновь за нами повторил не раз. 31 И, прежде чем он скрылся, замирая За далью, новый голос: «Я Орест!»[822] – Опять воскликнул, мимо проплывая. 34 Я знал, что мы среди безлюдных мест, Но чуть спросил: «Чья это речь?», как третий: «Врагов любите!» – возгласил окрест. 37 И добрый мой наставник: «Выси эти Бичуют грех завистливых; и вот, Сама любовь свивает вервья плети. 40 Узда должна звучать наоборот;[823] Быть может, на пути к стезе прощенья Тебе до слуха этот звук дойдет. 43 Но устреми сквозь воздух силу зренья, И ты увидишь – люди там сидят, Спиною опираясь о каменья». 46 И я увидел, расширяя взгляд, Людей, одетых в мантии простые; Был цвета камня этот их наряд. 49 Приблизясь, я услышал зов к Марии: «Моли о нас!» Так призван был с мольбой И Михаил, и Петр, и все святые. 52 Навряд ли ходит по земле такой Жестокосердый, кто бы не смутился Тем, что предстало вскоре предо мной; 55 Когда я с ними рядом очутился И видеть мог подробно их дела, Я тяжкой скорбью сквозь глаза излился. 58 Их тело власяница облекла, Они плечом друг друга подпирают, А вместе подпирает всех скала. 61 Так нищие слепцы на хлеб сбирают У церкви, в дни прощения грехов, И друг на друга голову склоняют, 64 Чтоб всякий пожалеть их был готов, Подвигнутый не только звуком слова, Но видом, вопиющим громче слов. 67 И как незримо солнце для слепого, Так и от этих душ, сидящих там, Небесный свет себя замкнул сурово: 70 У всех железной нитью по краям Зашиты веки, как для прирученья Их зашивают диким ястребам. 73 Я не хотел чинить им огорченья, Пройдя невидимым и видя их, И оглянулся, алча наставленья. 76 Вождь понял смысл немых речей моих И так сказал, не требуя вопроса: «Спроси, в словах коротких и живых!» 79 Вергилий шел по выступу откоса Тем краем, где нетрудно, оступясь, Упасть с неогражденного утеса. 82 С другого края, к скалам прислонясь, Сидели тени, и по лицам влага Сквозь страшный шов у них волной лилась. 85 Я начал так, не продолжая шага: «О вы, чей взор увидит свет высот И кто другого не желает блага, 88 Да растворится пенистый налет, Мрачащий вашу совесть, и сияя, Над нею память вновь да потечет! 91 И если есть меж вами мне родная Латинская душа, я был бы рад И мог бы ей быть в помощь, это зная». 94 «У нас одна отчизна – вечный град.[824] Ты разумел – душа, что обитала Пришелицей в Италии, мой брат». 97 Немного дальше эта речь звучала, Чем стали я и мудрый мой певец; В ту сторону подвинувшись сначала, 100 Я меж других увидел, наконец, Того, кто ждал. Как я его заметил? Он поднял подбородок, как слепец. 103 «Дух, – я сказал, – чей жребий станет светел! Откуда ты иль как зовут тебя, Когда ты тот, кто мне сейчас ответил?» 106 И тень: «Из Сьены я и здесь, скорбя, Как эти все, что жизнь свою пятнали, Зову, чтоб Вечный нам явил себя. 109 Не мудрая, хотя меня и звали Сапия,[825] меньше радовалась я Своим удачам, чем чужой печали. 112 Сам посуди, правдива ль речь моя И был ли кто безумен в большей доле, Уже склонясь к закату бытия. 115 Моих сограждан враг теснил у Колле,[826] А я молила нашего Творца О том, что сталось по его же воле. 118 Их одолели, не было бойца, Что б не бежал; я на разгром глядела И радости не ведала конца; 121 Настолько, что, лицо подъемля смело, Вскричала: «Бог теперь не страшен мне!». – Как черный дрозд, чуть только потеплело. 124 У края дней я, в скорбной тишине, Прибегла к богу; но мой долг ужасный Еще на мне бы тяготел вполне, 127 Когда б не вышло так, что сердцем ясный Пьер Петтинайо[827] мне помог, творя, По доброте, молитвы о несчастной.[828] 130 Но кто же ты, который, нам даря Свое вниманье, ходишь, словно зрячий, Как я сужу, и дышишь, говоря?» 133 И я: «Мой взор замкнется не иначе, Чем ваш, но ненадолго, ибо он Кривился редко при чужой удаче. 136 Гораздо большим ужасом смущен Мой дух пред мукой нижнего обрыва; Той ношей я заране пригнетен».[829] 139 «Раз ты там не был, – словно слыша диво, Сказала тень, – кто дал тебе взойти?» И я: «Он здесь и внемлет молчаливо. 142 Еще я жив; лишь волю возвести, Избранная душа, и я земные, Тебе служа, готов топтать пути». 145 «О, – тень в ответ, – слова твои такие, Что, несомненно, богом ты любим; Так помолись иной раз о Сапии. 148 Прошу тебя всем, сердцу дорогим: Быть может, ты пройдешь землей Тосканы, Так обо мне скажи моим родным. 151 В том городе все люди обуяны Любовью к Таламонэ, но успех Обманет их, как поиски Дианы, 154 И адмиралам будет хуже всех».[830] ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1 Кто это кружит здесь, как странник некий, Хоть смертью он еще не окрылен, И подымает и смыкает веки?» 4 «Не знаю, кто; он кемто приведен; Спроси, ты ближе; только не сурово, А ласково, чтобы ответил он». 7 Так, наклонясь один к плечу другого, Шептались двое, от меня правей; Потом, подняв лицо, чтоб молвить слово, 10 Один сказал: «Дух, во плоти своей Идущий к небу из земного края, Скажи нам и смущение развей: 13 Откуда ты и кто ты, что такая Тебе награда дивная дана, Редчайшая, чем всякая иная?» 16 И я: «В Тоскане речка есть одна; Сбегая с Фальтероны,[831] вьется смело И сотой милей не утолена. 19 С тех берегов принес я это тело; Сказать мое вам имя – смысла нет, Оно еще не много прозвенело». 22 И вопрошавший: «Если в твой ответ Суждение мое проникнуть властно, Ты говоришь об Арно». А сосед 25 Ему сказал: «Должно быть, не напрасно Названья этой речки он избег, Как будто до того оно ужасно». 28 И тот: «Что думал этот человек, Не ведаю; но по заслугам надо, Чтоб это имя сгинуло навек! 31 Вдоль всей реки, оттуда, где громада Хребта, с которым разлучен Пелор,[832] Едва ль не толще остального ряда, 34 Дотуда, где опять в морской простор Спешит вернуться то, что небо сушит, А реки снова устремляют с гор, 37 Все доброе, как змея, каждый душит; Места ли эти под наитьем зла, Или дурной обычай правду рушит, 40 Но жалкая долина привела Людей к такой утрате их природы, Как если бы Цирцея[833] их пасла. 43 Сперва среди дрянной свиной породы, Что только желудей не жрет пока, Она струит свои скупые воды;[834] 46 Затем к дворняжкам держит путь река, Задорным без какоголибо права, И нос от них воротит свысока.[835] 49 Спадая вниз и ширясь величаво, Уже не псов находит, а волков Проклятая несчастная канава.[836] 52 И, наконец, меж темных омутов, Она к таким лисицам попадает, Что и хитрец пред ними бестолков.[837] 55 К чему молчать? Пусть всякий мне внимает! И этому полезно знать вперед О том, что мне правдивый дух внушает. 58 Я вижу, как племянник твой идет Охотой на волков и как их травит На побережьях этих злобных вод. 61 Живое мясо на продажу ставит; Как старый скот, ведет их на зарез; Возглавит многих и себя бесславит. 64 Сыт кровью, покидает скорбный лес[838] Таким, чтоб он в былой красе и силе Еще тысячелетье не воскрес».[839] 67 Как тот, кому несчастье возвестили, В смятении меняется с лица, Откуда бы невзгоды ни грозили, 70 Так, выслушав пророчество слепца, Второй, я увидал, поник в печали, Когда слова воспринял до конца. 73 Речь этого и вид того рождали Во мне желанье знать, как их зовут; Мои слова как просьба прозвучали. 76 И тот же дух ответил мне и тут: «Ты о себе мне не сказал ни звука, А сам меня зовешь на этот труд! 79 Но раз ты взыскан богом, в чем порука То, что ты здесь, отвечу, не тая. Узнай: я Гвидо, прозванный Дель Дука. 82 Так завистью пылала кровь моя, Что, если было хорошо другому, Ты видел бы, как зеленею я. 85 И вот своих семян я жну солому. О род людской, зачем тебя манит Лишь то, куда нет доступа второму? 88 А вот Риньер,[840] которым знаменит Дом Кальболи, где в нисходящем ряде Никто его достоинств не хранит. 91 И не его лишь кровь[841] теперь в разладе, – Меж По и Рено, морем и горой,[842] – С тем, что служило правде и отраде; 94 В пределах этих порослью густой Теснятся ядовитые растенья, И вырвать их нет силы никакой. 97 Где Лицио, где Гвидо ди Карпенья? Пьер Траверсаро и Манарди где? Увы, романцы, мерзость вырожденья! 100 Болонью Фабро не спасет в беде, И не сыскать Фаэнце Бернардина, Могучий ствол на скромной борозде! 103 Тосканец, слезы льет моя кручина, Когда я Гвидо Прата вспомяну И доблестного Д'Адзо, Уголина; 106 Тиньозо, шумной братьи старшину, И Траверсари, живших в блеске славы, И Анастаджи, громких в старину;[843] 109 Дам, рыцарей, и войны, и забавы, Во имя благородства и любви, Там, где теперь такие злые нравы! 112 О Бреттиноро, больше не живи! Ушел твой славный род, и с ним в опале Все, у кого пылала честь в крови.[844] 115 Нет, к счастью, сыновей в Баньякавале[845]; А Коньо – стыд, и Кастрокаро – стыд, Плодящим графов, хуже, чем вначале.[846] 118 Когда их демон[847] будет в прах зарыт, Не станет сыновей и у Пагани, Но это славы их не обелит. 121 О Уголин де'Фантолин, заране Твой дом себя от поношенья спас: Никто не омрачит его преданий![848] 124 Но ты иди, тосканец; мне сейчас Милей беседы – дать слезам излиться; Так душу мне измучил мой рассказ!» 127 Мы знали – шаг наш должен доноситься До этих душ; и, раз молчат они, Мы на дорогу можем положиться. 130 И вдруг на нас, когда мы шли одни, Нагрянул голос, мчавшийся вдоль кручи Быстрей перуна в грозовые дни: 133 «Меня убьет, кто встретит!»[849] – и, летучий, Затих вдали, как затихает гром, Прорвавшийся сквозь оболочку тучи. 136 Едва наш слух успел забыть о нем, Раздался новый, словно повторенный Удар грозы, бушующей кругом: 139 «Я тень Аглавры, в камень превращенной!»[850] И я, правей, а не вперед ступив, К наставнику прижался, устрашенный. 142 Уже был воздух снова молчалив. «Вот жесткая узда, – сказал Вергилий, – Чтобы греховный сдерживать порыв. 145 Но вас влечет наживка, без усилий На удочку вас ловит супостат, И проку нет в поводьях и вабиле.[851] 148 Вкруг вас, взывая, небеса кружат, Где все, что зримо, – вечно и прекрасно, А вы на землю устремили взгляд; 151 И вас карает тот, кому все ясно». ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ 1 Какую долю, дневный путь свершая, Когда к исходу близок третий час, Являет сфера, как дитя, живая, 4 Такую долю и теперь как раз Осталось солнцу опуститься косо;[852] Там вечер был, и полночь здесь у нас.[853] 7 Лучи нам били в середину носа, Затем что мы к закатной стороне Держали путь по выступу утеса, 10 Как вдруг я ощутил, что в очи мне Ударил новый блеск, струясь продольно, И удивился этой новизне. 13 Тогда ладони я поднес невольно К моим бровям, держа их козырьком, Чтобы от света не было так больно. 16 Как от воды иль зеркала углом Отходит луч в противном направленье, Причем с паденьем сходствует подъем, 19 И от отвеса, в равном отдаленье, Уклон такой же точно он дает, Что подтверждается при наблюденьи, 22 Так мне казалось, что в лицо мне бьет Сиянье отражаемого света, И взор мой сделал быстрый поворот. 25 «Скажи, отец возлюбленный, что это Так неотступно мне в глаза разит, Все надвигаясь?» – я спросил поэта. 28 «Не диво, что тебя еще слепит Семья небес,[854] – сказал он. – К нам, в сиянье, Идет посол – сказать, что путь открыт. 31 Но скоро в тяжком для тебя сверканье Твои глаза отраду обретут, Насколько услаждаться в состоянье». 34 Когда мы подошли: «Ступени тут, – Сказал, ликуя, вестник благодати, – И здесь подъем гораздо меньше крут». 37 Уже мы подымались, и «Beati Misericordes!»[855] пелось нам вослед И «Радуйся, громящий вражьи рати!» 40 Мы шли все выше, я и мой поэт, Совсем одни; и я хотел, шагая, Услышать наставительный ответ; 43 И так ему промолвил, вопрошая: «Что тот слепой романец разумел, О «доступе другим» упоминая?» 46 И вождь: «Познав, какой грозит удел Позарившимся на чужие крохи, Он вас от слез предостеречь хотел. 49 Богатства, вас влекущие, тем плохи, Что, чем вас больше, тем скуднее часть, И зависть мехом раздувает вздохи. 52 А если бы вы устремляли страсть К верховной сфере,[856] беспокойство ваше Должно бы неминуемо отпасть. 55 Ведь там – чем больше говорящих «наше», Тем большей долей каждый наделен, И тем любовь горит светлей и краше». 58 «Теперь я даже меньше утолен, – Ответил я ему, – чем был сначала, И бо́льшими сомненьями смущен. 61 Ведь если достоянье общим стало И совладельцев много, почему Они богаче, чем когда их мало?» 64 И он в ответ: «Ты снова дал уму Отвлечься в сторону земного дела И вместо света почерпаешь тьму. 67 Как луч бежит на световое тело,[857] Так нескончаемая благодать Спешит к любви из горнего предела, 70 Даря ей то, что та способна взять; И чем сильнее пыл, в душе зажженный, Тем большей славой ей дано сиять. 73 Чем больше сонм, любовью озаренный, Тем больше в нем благой любви горит, Как в зеркалах взаимно отраженной. 76 Когда моим ответом ты не сыт, То Беатриче все твои томленья, И это и другие, утолит. 79 Стремись быстрей достигнуть исцеленья Пяти рубцов, как истребились два, Изглаженные силой сокрушенья». 82 «Ты мне даруешь…» – начал я едва, Как следующий круг возник пред нами, И жадный взор мой оттеснил слова. 85 И вдруг я словно был восхищен снами, Как если бы восторг меня увлек, И я увидел сборище во храме; 88 И женщина, переступив порог, С заботой материнской говорила: «Зачем ты это сделал нам, сынок? 91 Отцу и мне так беспокойно было Тебя искать!» Так молвила она, И первое видение уплыло.[858] 94 И вот другая, болью пронзена, Которую родит негодованье, Льет токи слез, и речь ее слышна: 97 «Раз ты властитель града, чье названье Среди богов посеяло разлад[859] И где блистает всяческое знанье, 100 Отмсти рукам бесстыдным, Писистрат, Обнявшим нашу дочь!» Но был спокоен К ней обращенный властелином взгляд, 103 И он сказал, нимало не расстроен: «Чего ж тогда достоин наш злодей, Раз тот, кто любит нас, суда достоин?»[860] 106 Потом я видел яростных людей, Которые, столпившись, побивали Камнями юношу, крича: «Бей! Бей!»
109 А тот, давимый гибелью, чем дале, Тем все бессильней поникал к земле, Но очи к небу двери отверзали, 112 И он молил, чтоб грешных в этом зле Господь всевышний гневом не коснулся, И зрелась кротость на его челе.[861] 115 Как только дух мой изнутри вернулся Ко внешней правде в должную чреду, Я от неложных грез моих очнулся. 118 Вождь, увидав, что я себя веду, Как тот, кого внезапно разбудили, Сказал мне: «Что с тобой? Ты как в чаду, 121 Прошел со мною больше полумили, Прикрыв глаза и шатко семеня, Как будто хмель иль сон тебя клонили». 124 И я: «Отец мой, выслушай меня, И я тебе скажу, что мне предстало, Суставы ног моих окостеня». 127 И он: «Хотя бы сто личин скрывало Твои черты, я бы до дна проник В рассудок твой сквозь это покрывало. 130 Тебе был сон, чтоб сердце ни на миг Не отвращало влагу примиренья,[862] Которую предвечный льет родник. 133 Я «Что с тобой?» спросил не от смятенья, Как тот, чьи взоры застилает мрак, Сказал бы рухнувшему без движенья; 136 А я спросил, чтоб укрепить твой шаг: Ленивых надобно будить, а сами Они не расшевелятся никак». 139 Мы шли сквозь вечер, меря даль глазами, Насколько солнце позволяло им, Сиявшее закатными лучами; 142 А нам навстречу – нараставший дым Скоплялся, темный и подобный ночи, И негде было скрыться перед ним; 145 Он чистый воздух нам затмил и очи. ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ 1 Во мраке Ада и в ночи, лишенной Своих планет и слоем облаков Под небом скудным плотно затемненной, 4 Мне взоров не давил такой покров, Как этот дым, который все сгущался, Причем и ворс нещадно был суров. 7 Глаз, не стерпев, невольно закрывался; И спутник мой придвинулся слегка, Чтоб я рукой его плеча касался.[863] 10 И как слепец, держась за вожака, Идет, боясь отстать и опасаясь Ушиба иль смертельного толчка, 13 Так, мглой густой и горькой пробираясь, Я шел и новых не встречал помех, А вождь твердил: «Держись, не отрываясь!» 16 И голоса я слышал, и во всех Была мольба о мире и прощенье Пред агнцем божьим, снявшим с мира грех. 19 Там «Agnus Dei»[864] пелось во вступленье; И речи соблюдались, и напев Одни и те же, в полном единенье. 22 «Учитель, это духи?» – осмелев, Спросил я. Он в ответ: «Мы рядом с ними. Здесь, расторгая, сбрасывают гнев». 25 «А кто же ты, идущий в нашем дыме И вопрошающий про нас, как те, Кто мерит год календами земными?» 28 Так чейто голос молвил в темноте. «Ответь, – сказал учитель, – и при этом Дознайся, здесь ли выход к высоте». 31 И я: «О ты, что, осиянный светом, Взойдешь к Творцу, ты будешь удивлен, Когда пройдешь со мной, моим ответом». 34 «Пройду, насколько я идти волен; И если дым преградой стал меж нами, Нам связью будет слух», – ответил он. 37 Я начал так: «Повитый пеленами, Срываемыми смертью, вверх иду, Подземными измучен глубинами; 40 И раз угодно божьему суду, Чтоб я увидел горние палаты, Чему давно примера не найду, 43 Скажи мне, кем ты был до дня расплаты И верно ли ведет стезя моя, И твой язык да будет наш вожатый». 46 «Я был ломбардец, Марко звался я;[865] Изведал свет и к доблести стремился, Куда стрела не метит уж ничья. 49 А с правильной дороги ты не сбился». Так он сказал, добавив: «Я прошу, Чтоб обо мне, взойдя, ты помолился». 52 И я: «Твое желанье я свершу; Но у меня сомнение родилось, И я никак его не разрешу. 55 Возникшее, оно усугубилось От слов твоих, мне подтвердивших то, С чем здесь и там оно соединилось. 58 Как ты сказал, теперь уже никто Добра не носит даже и личину: Зло и внутри, и сверху разлито. 61 Но укажи мне, где искать причину: Внизу иль в небесах? Когда пойму, Я и другим поведать не премину».[866] 64 Он издал вздох, замерший в скорбном «У!», И начал так, в своей о нас заботе: «Брат, мирслепец, и ты сродни ему. 67 Вы для всего причиной признаете Одно лишь небо,[867] словно все дела Оно вершит в своем круговороте. 70 Будь это так, то в вас бы не была Свободной воля, правды бы не стало В награде за добро, в отмщенье зла. 73 Влеченья от небес берут начало, – Не все; но скажем даже – все сполна, – Вам дан же свет, чтоб воля различала 76 Добро и зло, и ежели она Осилит с небом первый бой опасный, То, с доброй пищей, победить должна. 79 Вы лучшей власти, вольные, подвластны И высшей силе, влившей разум в вас; А небеса к нему и непричастны.[868] 82 И если мир шатается сейчас, Причиной – вы, для тех, кто разумеет; Что это так, покажет мой рассказ. 85 Из рук того,[869] кто искони лелеет Ее в себе, рождаясь, как дитя, Душа еще и мыслить не умеет, 88 Резвится, то смеясь, а то грустя, И, радостного мастера созданье, К тому, что манит, тотчас же летя. 91 Ничтожных благ вкусив очарованье, Она бежит к ним, если ей препон Не создают ни вождь, ни обузданье. 94 На то и нужен, как узда, закон; На то и нужен царь, чей взор открыто Хоть к башне Града[870] был бы устремлен. 97 Законы есть, но кто же им защита? Никто;[871] ваш пастырь жвачку хоть жует, Но не раздвоены его копыта;[872] 100 И паства, видя, что вожатый льнет К благам, будящим в ней самой влеченье, Ест, что и он, и лучшего не ждет. 103 Ты видишь, что дурное управленье Виной тому, что мир такой плохой, А не природы вашей извращенье. 106 Рим, давший миру наилучший строй, Имел два солнца,[873] так что видно было, Где божий путь лежит и где мирской. 109 Потом одно другое погасило;[874] Меч слился с посохом,[875] и вышло так, Что это их, конечно, развратило 112 И что взаимный страх у них иссяк. Взгляни на колос, чтоб не сомневаться; По семени распознается злак. 115 В стране, где По и Адиче струятся,[876] Привыкли честь и мужество цвести; В дни Федерика стал уклад ломаться;[877] 118 И что теперь открыты все пути Для тех, кто раньше к людям честной жизни Стыдился бы и близко подойти. 121 Есть, правда, новым летам к укоризне, Три старика, которые досель Томятся жаждой по иной отчизне:[878] 124 Герардо славный; Гвидо да Кастель, «Простой ломбардец», милый и французу; Куррадо да Палаццо.[879] Неужель 127 Не видишь ты, что церковь, взяв обузу Мирских забот, под бременем двух дел Упала в грязь, на срам себе и грузу?» 130 «О Марко мой, я все уразумел, – Сказал я. – Вижу, почему левиты[880] Не получили ничего в удел. 133 Но кто такой Герардо знаменитый, Который в диком веке, ты сказал, Остался миру как пример забытый?» 136 «Ты странно говоришь, – он отвечал. – Ужели ты, в Тоскане обитая, Про доброго Герардо не слыхал? 139 Так прозвище ему. Вот разве Гайя, Родная дочь, снабдит его другим. Храни вас бог! А я дошел до края. 142 Уже заря белеется сквозь дым, – Там ангел ждет, – и надо, чтоб от света Я отошел, покуда я незрим». 145 И повернул, не слушая ответа. ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ 1 Читатель, если ты в горах, бывало, Бродил в тумане, глядя, словно крот, Которому плева глаза застлала, 4 Припомни миг, когда опять начнет Редеть густой и влажный пар, – как хило Шар солнца сквозь него сиянье льет; 7 И ты поймешь, каким вначале было, Когда я вновь его увидел там, К закату нисходившее светило. 10 Так, примеряясь к дружеским шагам Учителя, я шел редевшей тучей К уже умершим под горой лучам. 13 Воображенье, чей порыв могучий Подчас таков, что, кто им увлечен, Не слышит рядом сотни труб гремучей, 16 В чем твой источник, раз не в чувстве он? Тебя рождает некий свет небесный, Сам или высшей волей источен. 19 Жестокость той, которая телесный Сменила облик, певчей птицей став, В моем уме вдавила след чудесный;[881] 22 И тут мой дух всего себя собрав В самом себе, все прочее отринул, С тем, что вовне, общение прервав. 25 Затем в мое воображенье хлынул Распятый, гордый обликом, злодей, Чью душу гнев и в смерти не покинул. 28 Там был с Эсфирью, верною своей Великий Артаксеркс и благородный Речами и делами Мардохей.[882] 31 Когда же этот образ, с явью сходный, Распался наподобье пузыря, Лишившегося оболочки водной, – 34 В слезах предстала дева, говоря: «Зачем, царица, горестной кончины Ты захотела, гневом возгоря? 37 Ты умерла, чтоб не терять Лавины, – И потеряла! Я подъемлю гнет Твоей, о мать, не чьей иной судьбины».[883] 40 Как греза сна, когда ее прервет Волна в глаза ударившего света, Трепещет миг, потом совсем умрет, – 43 Так было сметено виденье это В лицо мое ударившим лучом, Намного ярче, чем сиянье лета. 46 Пока, очнувшись, я глядел кругом, Я услыхал слова: «Здесь восхожденье», И я уже не думал о другом, 49 И волю охватило то стремленье Скорей взглянуть, кто это говорил, Которому предел – лишь утоленье. 52 Но как на солнце посмотреть нет сил, И лик его в чрезмерном блеске тает, Так точно здесь мой взгляд бессилен был. 55 «То божий дух, и нас он наставляет Без нашей просьбы и от наших глаз Своим же светом сам себя скрывает. 58 Как мы себя, так он лелеет нас; Мы, чуя просьбу и нужду другого, Уже готовим, злобствуя, отказ. 61 Направим шаг на звук такого зова; Идем наверх, пока не умер день; Нельзя всходить средь сумрака ночного». 64 Так молвил вождь, и мы вступили в тень Высокой лестницы, свернув налево; И я, взойдя на первую ступень, 67 Лицом почуял как бы взмах обвева; «Beati, – чейто голос возгласил, – Pacific![884], в ком нет дурного гнева!» 70 Уже к таким высотам уходил Пред наступавшей ночью луч заката, Что коегде зажглись огни светил. 73 «О мощь моя, ты вся ушла кудато!» – Сказал я про себя, заметя вдруг, Что сила ног томлением объята. 76 Мы были там, где, выйдя в новый круг, Кончалась лестница, и здесь, у края, Остановились, как доплывший струг. 79 Я начал вслушиваться, ожидая, Не огласится ль звуком тишина; Потом, лицо к поэту обращая: 82 «Скажи, какая, – я сказал, – вина Здесь очищается, отец мой милый? Твой скован шаг, но речь твоя вольна». 85 «Любви к добру, неполной и унылой, Здесь придается мощность, – молвил тот. – Здесь вялое весло бьет с новой силой. 88 Пусть разум твой к словам моим прильнет, И будет мой урок немногословный Тебе на отдыхе как добрый плод. 91 Мой сын, вся тварь, как и творец верховный, – Так начал он, – ты это должен знать, Полна любви, природной иль духовной. 94 Природная не может погрешать;[885] Вторая может целью ошибиться, Не в меру скудной иль чрезмерной стать. 97 Пока она к высокому стремится, А в низком за предел не перешла, Дурным усладам нет причин родиться; 100 Но где она идет стезею зла Иль блага жаждет слишком или мало, Там тварь завет творца не соблюла. 103 Отсюда ясно, что любовь – начало Как всякого похвального плода, Так и всего, за что карать пристало. 106 А так как взор любви склонен всегда К тому всех прежде, кем она носима, То неприязнь к себе вещам чужда. 109 И так как сущее неотделимо От Первой сущности,[886] она никак Не может оказаться нелюбима. 112 Раз это верно, остается так: Зло, как предмет любви, есть зло чужое, И в вашем иле[887] вид ее трояк. 115 Иной надеется подняться вдвое, Поправ соседа, – этот должен пасть, И лишь тогда он будет жить в покое; 118 Иной боится славу, милость, власть Утратить, если ближний вознесется; И неприязнь томит его, как страсть; 121 Иной же от обиды так зажжется, Что голоден, пока не отомстит, И мыслями к чужой невзгоде рвется. 124 И этой вот любви троякий вид Оплакан там внизу; но есть другая, Чей путь к добру – иной, чем надлежит. 127 Все смутно жаждут блага, сознавая, Что мир души лишь в нем осуществим, И все к нему стремятся, уповая. 130 Но если вас влечет к общенью с ним Лишь вялая любовь, то покаянных Казнит вот этот круг, где мы стоим. 133 Еще есть благо, полное обманных, Пустых отрад, в котором нет того, В чем плод и корень благ, для счастья данных. 136 Любовь, чресчур алкавшая его, В трех верхних кругах предается плачу; Но в чем ее тройное естество, 139 Я умолчу, чтоб ты решил задачу».[888] ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ 1 Закончил речь наставник мой высокий И мне глядел в глаза, чтобы узнать, Вполне ли я постиг его уроки. 4 Я, новой жаждой мучимый опять, Вовне молчал, внутри твердил: «Не дело Ему, быть может, слишком докучать». 7 Он, как отец, поняв, какое тлело Во мне желанье, начал разговор, Чтоб я решился высказаться смело. 10 И я: «Твой свет так оживил мне взор, Учитель, что ему наглядным стало Все то, что перед ним ты распростер; 13 Но, мой отец, еще я знаю мало, Что́ есть любовь, в которой всех благих И грешных дел ты полагал начало». 16 «Направь ко мне, – сказал он, – взгляд своих Духовных глаз, и вскроешь заблужденье Слепцов,[889] которые ведут других. 19 В душе к любви заложено стремленье, И все, что нравится, ее влечет, Едва ее поманит наслажденье. 22 У вас внутри воспринятым живет Наружный образ, к вам запав – таится И душу на себя взглянуть зовет; 25 И если им, взглянув, она пленится, То этот плен – любовь; природный он, И наслажденьем может лишь скрепиться. 28 И вот, как пламень кверху устремлен, И первое из свойств его – взлетанье К среде, где он прочнее сохранен,[890] – 31 Так душу пленную стремит желанье, Духовный взлет, стихая лишь тогда, Когда она вступает в обладанье. 34 Ты видишь сам, как истина чужда Приверженцам той мысли сумасбродной, Что, мол, любовь оправдана всегда. 37 Пусть даже чист состав ее природный; Но если я и чистый воск возьму, То отпечаток может быть негодный». 40 «Твои слова послушному уму Раскрыли суть любви; но остается Недоуменье, – молвил я ему. – 43 Ведь если нам любовь извне дается И для души другой дороги нет, Ей отвечать за выбор не придется». 46 «Скажу, что видит разум, – он в ответ. – А дальше – дело веры; уповая, Жди Беатриче, и обрящешь свет. 49 Творящее начало, пребывая Врозь с веществом в пределах вещества, Полно особой силы, каковая 52 В бездействии незрима, хоть жива, А зрима лишь посредством проявленья;[891] Так жизнь растенья выдает листва. 55 Откуда в вас зачатки постиженья, Сокрыто от людей завесой мглы, Как и откуда первые влеченья, 58 Подобные потребности пчелы Брать мед; и нет хвалы, коль взвесить строго, Для этой первой воли, ни хулы. 61 Но вслед за ней других теснится много, И вам дана способность править суд И делать выбор, стоя у порога. 64 Вот почему у вас ответ несут, Когда любви благой или презренной Дадут или отпор, или приют. 67 И те, чья мысль была проникновенной, Познав, что вам свобода врождена, Нравоученье вынесли вселенной. 70 Итак, пусть даже вам извне дана Любовь, которая внутри пылает, – Душа всегда изгнать ее вольна. 73 Вот то, что Беатриче называет Свободной волей;[892] если б речь зашла О том у вас, пойми, как подобает». 76 Луна в полночный поздний час плыла И, понуждая звезды разредиться, Скользила, в виде яркого котла, 79 Навстречу небу,[893] там, где солнце мчится, Когда оно за Римом для очей Меж сардами и корсами садится.[894] 82 И тень, чьей славой Пьетола[895] славней Всей мантуанской области пространной, Сложила бремя тяготы моей. 85 А я, приняв столь ясный и желанный Ответ на каждый заданный вопрос, Стоял, как бы дремотой обуянный. 88 Но эту дрему тотчас же унес Внезапный крик, и показались тени, За нами обегавшие утес. 91 Как некогда Асоп или Исмений[896] Видали по ночам толпу и гон Фивян во время Вакховых радений, 94 Так здесь несутся, огибая склон, – Я смутно видел, – в вечном непокое Те, кто благой любовью уязвлен. 97 Мгновенно это скопище большое, Спеша бегом, настигло нас, и так, Всех впереди, в слезах кричали двое: 100 «Мария в горы устремила шаг,[897] И Цезарь поспешил, кольнув Марсилью, В Испанию, где ждал в Илерде враг».[898] 103 «Скорей, скорей, нельзя любвеобилью Быть вялым! – сзади общий крик летел. – Нисходит милость к доброму усилью». 106 «О вы, в которых острый пыл вскипел Взамен того, как хладно и лениво Вы медлили в свершенье добрых дел! 109 Вот он, живой, – я говорю нелживо, – Идет наверх и только солнца ждет; Скажите нам, где щель в стене обрыва». 112 Так встретил вождь стремившийся народ; Одна душа сказала, пробегая: «Иди за нами и увидишь вход. 115 Потребность двигаться у нас такая, Что ноги нас неудержимо мчат; Прости, наш долг за грубость не считая. 118 Я жил в стенах СанДзено[899] как аббат, И нами добрый Барбаросса правил, О ком в Милане скорбно говорят.[900] 121 Одну стопу уже во гроб поставил Тот, кто оплачет этот божий дом, Который он, имея власть, ославил, 124 Назначив сына, зачатого злом, С душой еще уродливей, чем тело, Не по уставу пастырствовать в нем».[901] 127 Толпа настолько пробежать успела, Что я не знаю, смолк он или нет; Но эту речь душа запечатлела. 130 И тот, кто был мне помощь и совет, Сказал: «Смотри, как двое там, зубами Вцепясь в унынье, мчатся им вослед».[902] 133 «Не раньше, – крик их слышался за нами, – Чем истребились те, что по дну шли, Открылся Иордан пред их сынами.[903] 136 И те, кто утомленья не снесли, Когда Эней на подвиг ополчился, Себя бесславной жизни обрекли».[904] 139 Когда их сонм настолько удалился, Что видеть я его уже не мог, Во мне какойто помысел родился, 142 Который много всяких новых влек, И я, клонясь от одного к другому, Закрыв глаза, вливался в их поток, 145 И размышленье претворилось в дрему. ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 1 Когда разлитый в воздухе безбурном Зной дня слабей, чем хладная луна, Осиленный землей или Сатурном,[905] 4 А геомантам, пред зарей, видна Fortuna major там, где торопливо Восточная светлеет сторона,[906] 7 В мой сон вступила женщина: гугнива, С культями вместо рук, лицом желта, Она хромала и глядела криво.[907] 10 Я на нее смотрел; как теплота Живит издрогнувшее за ночь тело, Так и мой взгляд ей развязал уста, 13 Помог ей тотчас выпрямиться смело И гиблое лицо свое облечь В такие краски, как любовь велела.[908] 16 Как только у нее явилась речь, Она запела так, что я от плена С трудом бы мог вниманье уберечь. 19 «Я, – призрак пел, – я нежная сирена, Мутящая рассудок моряков, И голос мой для них всему замена. 22 Улисса совратил мой сладкий зов С его пути;[909] и тот, кто мной пленится, Уходит редко из моих оков». 25 Скорей, чем рот ее успел закрыться, Святая и усердная жена[910] Возникла возле, чтобы той смутиться. 28 «Вергилий, о Вергилий, кто она?» – Ее был возглас; он же, стоя рядом, Взирал, как эта чистая гневна. 31 Она ее схватила с грозным взглядом И, ткань порвав, открыла ей живот; Меня он разбудил несносным смрадом. 34 «Я трижды звал, потом оставил счет, – Сказал мой вождь, чуть я повел очами. – Вставай, пора идти! Отыщем вход». 37 Я встал; уже наполнились лучами По всей горе священные круги; Мы шли с недавним солнцем за плечами. 40 Я следом направлял мои шаги, Изогнутый под грузом размышлений, Как половина мостовой дуги. 43 Вдруг раздалось: «Придите, здесь ступени», – И ласка в этом голосе была, Какой не слышно в нашей смертной сени. 46 Раскрыв, подобно лебедю, крыла, Так говоривший нас наверх направил, Туда, где в камне лестница вела. 49 Он, обмахнув нас перьями, прибавил, Что те, «qui lugent»,[911] счастье обрели, И утешенье, ждущее их, славил. 52 «Ты что́ склонился чуть не до земли?» – Так начал говорить мне мой вожатый, Когда мы выше ангела взошли. 55 И я: «Иду, сомненьями объятый; Я видел сон и жаждал бы ясней Понять язык его замысловатый». 58 И он: «Ты видел ведьму древних дней, Ту самую, о ком скорбят над нами; Ты видел, как разделываться с ней.[912] 61 С тебя довольно; землю бей стопами! Взор обрати к вабилу[913], что кружит Предвечный царь огромными кругами!» 64 Как сокол долго под ноги глядит, Потом, услышав оклик, встрепенется И тянется туда, где будет сыт, 67 Так сделал я; и так, пока сечется Ведущей вверх тропой громада скал, Всходил к уступу, где дорога вьется. 70 Вступая в пятый круг, я увидал Народ, который, двинуться не смея, Лицом к земле поверженный, рыдал. 73 «Adhaesit pavimento anima mea!»[914] – Услышал я повсюду скорбный звук, Едва слова сквозь вздохи разумея. 76 «Избранники, чье облегченье мук – И в правде, и в надежде, укажите, Как нам подняться в следующий круг!» 79 «Когда вы здесь меж нами не лежите, То, чтобы путь туда найти верней, Кнаруже правое плечо держите». 82 Так молвил вождь, и так среди теней Ему ответили; а кто ответил, Мой слух мне указал всего точней. 85 Я взор наставника глазами встретил; И он позволил, сделав бодрый знак, То, что в просящем облике заметил. 88 Тогда, во всем свободный, я мой шаг Направил ближе к месту, где скорбело Созданье это, и промолвил так: 91 «Дух, льющий слезы, чтобы в них созрело То, без чего возврата к богу нет, Скажи, прервав твое святое дело: 94 Кем был ты;[915] почему у вас хребет Вверх обращен; и чем могу хоть мало Тебе помочь, живым покинув свет?» 97 «Зачем нас небо так ничком прижало, Ты будешь знать; но раньше scias quod Fui successor Petri,[916] – тень сказала. – 100 Меж Кьявери и Сьестри воды льет Большой поток, и с ним одноименный Высокий титул отличил мой род.[917] 103 Я свыше месяца влачил, согбенный, Блюдя от грязи, мантию Петра; Пред ней – как пух все тяжести вселенной. 106 Увы, я поздно стал на путь добра! Но я познал, уже как пастырь Рима, Что жизнь земная – лживая мара. 109 Душа, я видел, как и встарь томима, А выше стать в той жизни я не мог, – И этой восхотел неудержимо. 112 До той поры я жалок и далек От бога был, неизмеримо жадный, И казнь, как видишь, на себя навлек. 115 Здесь явлен образ жадности наглядный Вот в этих душах, что окрест лежат; На всей горе нет муки столь нещадной. 118 Как там подняться не хотел наш взгляд К высотам, устремляемый к земному, Так здесь возмездьем он к земле прижат. 121 Как жадность там порыв любви к благому Гасила в нас и не влекла к делам,[918] Так здесь возмездье, хоть и поиному, 124 Стопы и руки связывает нам, И мы простерты будем без движенья, Пока угодно правым небесам». 127 Став на колени из благоговенья, Я начал речь, но и по слуху он Заметил этот признак уваженья 130 И молвил: «Почему ты так склонен?» И я в ответ: «Таков ваш сан великий, Что совестью я, стоя, уязвлен». 133 «Брат, встань! – ответил этот дух безликий. – Ошибся ты: со всеми и с тобой Я сослужитель одного владыки. 136 Тому, кто звук Евангелья святой, Гласящий «Neque nubent»,[919] разумеет, Понятно будет сказанное мной. 139 Теперь иди; мне скорбь моя довлеет; Ты мне мешаешь слезы лить, стеня, В которых то, что говорил ты, зреет.[920] 142 Есть добрая Аладжа[921] у меня, Племянница, – и только бы дурного В ней не посеяла моя родня! 145 Там у меня нет никого другого». ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ 1 Пред лучшей волей[922] силы воли хрупки; Ему в угоду, в неугоду мне, Я погруженной не насытил губки.[923] 4 Я двинулся; и вождь мой, в тишине, Свободными местами шел под кручей, Как вдоль бойниц проходят по стене; 7 Те, у кого из глаз слезой горючей Сочится зло, заполнившее свет,[924] Лежат кнаруже слишком плотной кучей. 10 Будь проклята, волчица древних лет, В чьем ненасытном голоде все тонет И яростней которой зверя нет![925] 13 О небеса, чей ход иными понят, Как полновластный над судьбой земли, Идет ли тот, кто эту тварь изгонит? 16 Мы скудным шагом медленно брели, Внимая теням, скорбно и устало Рыдавшим и томившимся в пыли; 19 Как вдруг вблизи «Мария!» прозвучало, И так тоска казалась тяжела, Как если бы то женщина рожала; 22 И далее: «Как ты бедна была, Являет тот приют, где пеленицей Ты свой священный отпрыск повила». 25 Потом я слышал: «Праведный Фабриций[926], Ты бедностью безгрешной посрамил Порок, обогащаемый сторицей». 28 Смысл этой речи так был сердцу мил, Что я пошел вперед, узнать желая, Кто из лежавших это говорил. 31 Еще он славил щедрость Николая,[927] Который спас невест от нищеты, Младые годы к чести направляя. 34 «Дух, вспомянувший столько доброты! – Сказал я. – Кем ты был? И неужели Хваленья здесь возносишь только ты? 37 Я буду помнить о твоем уделе, Когда вернусь короткий путь кончать, Которым жизнь летит к последней цели». 40 И он: «Скажу про все, хотя мне ждать Оттуда нечего; но без сравненья В тебе, живом, сияет благодать. 43 Я корнем был зловредного растенья,[928] Наведшего на божью землю мрак, Такой, что в ней неплодье запустенья. 46 Когда бы Гвант, Лиль, Бруджа и Дуак Могли, то месть была б уже свершенной; И я молюсь, чтобы случилось так.[929] 49 Я был Гугон, Капетом нареченный,[930] И не один Филипп и Людовик Над Францией владычил, мной рожденный. 52 Родитель мой в Париже был мясник;[931] Когда старинных королей не стало, Последний же из племени владык 55 Облекся в серое,[932] уже сжимала Моя рука бразды державных сил, И мне земель, да и друзей достало, 58 Чтоб диадемой вдовой[933] осенил Мой сын свою главу и длинной смене Помазанных начало положил. 61 Пока мой род в прованском пышном вене[934] Не схоронил стыда, он мог сойти Ничтожным, но безвредным тем не мене. 64 А тут он начал хитрости плести И грабить; и забрал, во искупленье, Нормандию, Гасконью и Понти[935]. 67 Карл сел в Италии;[936] во искупленье, Зарезал Куррадина;[937] а Фому Вернул на небеса,[938] во искупленье. 70 Я вижу время, близок срок ему, – И новый Карл его поход повторит, Для вящей славы роду своему. 73 Один, без войска, многих он поборет Копьем Иуды; им он так разит, Что брюхо у Флоренции распорет. 76 Не землю он, а только грех и стыд Приобретет, тем горший в час расплаты, Что этот груз его не тяготит.[939] 79 Другой, я вижу, пленник, в море взятый, Дочь продает, гонясь за барышом,[940] Как делают с рабынями пираты. 82 О жадность, до чего же мы дойдем, Раз кровь мою[941] так привлекло стяжанье, Что собственная плоть ей нипочем? 85 Но я страшнее вижу злодеянье: Христос в своем наместнике пленен, И торжествуют лилии в Аланье. 88 Я вижу – вновь людьми поруган он, И желчь и уксус пьет, как древле было, И средь живых разбойников казнен.[942] 91 Я вижу – это все не утолило Новейшего Пилата;[943] осмелев, Он в храм вторгает хищные ветрила.[944] 94 Когда ж, господь, возвеселюсь, узрев Твой суд, которым, в глубине безвестной, Ты умягчаешь твой сокрытый гнев? 97 А возглас мой[945] к невесте неневестной Святого духа, вызвавший в тебе Твои вопросы, это наш совместный 100 Припев к любой творимой здесь мольбе, Покамест длится день; поздней заката Мы об обратной говорим судьбе.[946] 103 Тогда мы повторяем, как когдато Братоубийцей стал Пигмалион, Предателем и вором, в жажде злата;[947] 106 И как Мидас в беду был вовлечен, В своем желанье жадном утоляем, Которым сделался для всех смешон.[948] 109 Безумного Ахана вспоминаем, Добычу скрывшего, и словно зрим, Как гневом Иисуса он терзаем.[949] 112 Потом Сапфиру с мужем[950] мы виним, Мы рады синякам Гелиодора,[951] И вся гора позором круговым 115 Напутствует убийцу Полидора;[952] Последний клич: «Как ты находишь, Красс, Вкус золота? Что ты знаток, нет спора!»[953] 118 Кто громко говорит, а кто, подчас, Чуть внятно, по тому, насколь сурово Потребность речи уязвляет нас. 121 Не я один о добрых молвил слово, Как здесь бывает днем; но невдали Не слышно было никого другого». 124 Мы от него немало отошли И, напрягая силы до предела, Спешили по дороге, как могли. 127 И вдруг гора, как будто пасть хотела, Затрепетала; стужа обдала Мне, словно перед казнию, все тело, 130 Не так тряслась Делосская скала, Пока гнезда там не свила Латона И небу двух очей не родила.[954] 133 Раздался крик по всем уступам склона, Такой, что, обратясь, мой проводник Сказал: «Тебе твой спутник оборона». 136 «Gloria in excelsis»[955] – был тот крик, Один у всех, как я его значенье По возгласам ближайших к нам постиг. 139 Мы замерли, внимая восхваленье, Как слушали те пастухи в былом; Но прекратился трус, и смолкло пенье. 142 Мы вновь пошли своим святым путем, Среди теней, попрежнему безгласно Поверженных в рыдании своем. 145 Еще вовек неведенье[956] так страстно Рассудок мой к познанью не влекло, Насколько я способен вспомнить ясно, 148 Как здесь я им терзался тяжело; Я, торопясь, не смел задать вопроса, Раздумье же помочь мне не могло; 151 Так, в робких мыслях, шел я вдоль утеса. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Терзаемый огнем природной жажды, Который утоляет лишь вода, Самаритянке данная однажды,[957] 4 Я, следуя вождю, не без труда Загроможденным кругом торопился, Скорбя при виде правого суда. 7 И вдруг, как, по словам Луки, явился Христос в дороге двум ученикам, Когда его могильный склеп раскрылся, – 10 Так здесь явился дух,[958] вдогонку нам, Шагавшим над простертыми толпами; Его мы не заметили; он сам 13 Воззвал к нам: «Братья, мир господень с вами!» Мы тотчас обернулись, и поэт Ему ответил знаком и словами: 16 «Да примет с миром в праведный совет Тебя неложный суд, от горней сени Меня отторгший до скончанья лет!» 19 «Как! Если вы не призванные тени, – Сказал он, с нами торопясь вперед, – Кто вас возвел на божии ступени?» 22 И мой наставник: «Кто, как этот вот, Отмечен ангелом, несущим стражу, Тот воцаренья с праведными ждет. 25 Но так как та, что вечно тянет пряжу,[959] Его кудель ссучила не вполне, Рукой Клото́ намотанную клажу, 28 Его душа, сестра тебе и мне, Не обладая нашей мощью взгляда, Идти одна не может к вышине. 31 И вот я призван был из бездны Ада Его вести, и буду близ него, Пока могу руководить, как надо. 34 Но, может быть, ты знаешь: отчего Встряслась гора и возглас ликованья Объял весь склон до влажных стоп его?» 37 Спросив, он мне попал в ушко желанья Так метко, что и жажда смягчена Была одной отрадой ожиданья. 40 Тот начал так: «Гора отрешена Ото всего, в чем нарушенье чина И в чем бы оказалась новизна. 43 Здесь перемен нет даже и помина: Небесного в небесное возврат И только – их возможная причина. 46 Ни дождь, ни иней, ни роса, ни град, Ни снег не выпадают выше грани Трех ступеней у загражденных врат.[960] 49 Нет туч, густых иль редких, нет блистаний, И дочь Фавманта в небе не пестра, Та, что внизу живет среди скитаний.[961] 52 Сухих паров[962] не ведает гора Над сказанными мною ступенями, Подножием наместника Петра. 55 Внизу трясет, быть может, временами, Но здесь ни разу эта вышина Не сотряслась подземными ветрами.[963] 58 Дрожит она, когда из душ одна Себя познает чистой, так что встанет Иль вверх пойдет; тогда и песнь слышна. 61 Знак очищенья – если воля взманит Переменить обитель,[964] и счастлив, Кто, этой волей схваченный, воспрянет. 64 Душа и раньше хочет; но строптив Внушенный божьей правдой, против воли, Позыв страдать, как был грешить позыв. 67 И я, простертый в этой скорбной боли Пятьсот и больше лет, изведал вдруг Свободное желанье лучшей доли. 70 Вот отчего все дрогнуло вокруг, И духи песнью славили гремящей Того, кто да избавит их от мук». 73 Так он сказал; и так как пить тем слаще, Чем жгучей жажду нам пришлось терпеть, Скажу ль, как мне был в помощь говорящий? 76 И мудрый вождь: «Теперь я вижу сеть, Вас взявшую, и как разъять тенета, Что зыблет гору и велит вам петь. 79 Но кем ты был – узнать моя забота, И почему века, за годом год, Ты здесь лежал – не дашь ли мне отчета?» 82 «В те дни, когда всесильный царь высот Помог, чтоб добрый Тит отмстил за раны, Кровь из которых продал Искарьот,[965] – 85 Ответил дух, – я оглашал те страны Прочнейшим и славнейшим из имен,[966] К спасению тогда еще не званный. 88 Моих дыханий был так сладок звон, Что мною, толосатом[967], Рим пленился, И в Риме я был миртом осенен. 91 В земных народах Стаций не забылся. Воспеты мной и Фивы и Ахилл, Но под второю ношей я свалился.[968] 94 В меня, как семя, искру заронил Божественный огонь, меня жививший, Который тысячи воспламенил; 97 Я говорю об Энеиде, бывшей И матерью, и мамкою моей, И все, что труд мой весит, мне внушившей. 100 За то, чтоб жить, когда среди людей Был жив Вергилий, я бы рад в изгнанье[969] Провесть хоть солнце[970] свыше должных дней». 103 Вергилий на меня взглянул в молчанье, И вид его сказал: «Будь молчалив!» Но ведь не все возможно при желанье. 106 Улыбку и слезу родит порыв Душевной страсти, трудно одолимый Усильем воли, если кто правдив. 109 Я не сдержал улыбки еле зримой; Дух замолчал, чтоб мне в глаза взглянуть, Где ярче виден помысел таимый. 112 «Да завершишь добром свой тяжкий путь! – Сказал он мне. – Но что в себе хоронит Твой смех, успевший только что мелькнуть?» 115 И вот меня две силы розно клонят: Здесь я к молчанью, там я понужден К ответу; я вздыхаю, и я понят 118 Учителем. «Я вижу – ты смущен. Ответь ему, а то его тревожит Неведенье», – так мне промолвил он. 121 И я: «Моей улыбке ты, быть может, Дивишься, древний дух. Так будь готов, Что удивленье речь моя умножит. 124 Тот, кто ведет мой взор чредой кругов, И есть Вергилий, мощи той основа, С какой ты пел про смертных и богов. 127 К моей улыбке не было иного, Поверь мне, повода, чем миг назад О нем тобою сказанное слово». 130 Уже упав к его ногам, он рад Их был обнять; но вождь мой, отстраняя: «Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат». 133 «Смотри, как знойно, – молвил тот, вставая, – Моя любовь меня к тебе влекла, Когда, ничтожность нашу забывая, 136 Я тени принимаю за тела». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 Уже был ангел далеко за нами, Тот ангел, что послал нас в круг шестой, Еще рубец смахнув с меня крылами; 4 И тех, кто правды восхотел святой, Назвал блаженными, и прозвучало Лишь «sitiunt»[971] – и только – в речи той; 7 И я, чье тело снова легче стало, Спешил наверх без всякого труда Вослед теням, не медлившим нимало, – 10 Когда Вергилий начал так: «Всегда Огонь благой любви зажжет другую, Блеснув хоть в виде робкого следа. 13 С тех пор, как в адский Лимб, где я тоскую, К нам некогда спустился Ювенал[972], Открывший мне твою любовь живую, 16 К тебе я сердцем благосклонней стал, Чем можно быть, коголибо не зная, И короток мне путь средь этих скал. 19 Но объясни, как другу мне прощая, Что смелость послабляет удила, И впредь со мной, как с другом, рассуждая: 22 Как это у тебя в груди могла Жить скупость[973] рядом с мудростью, чья сила Усердием умножена была?» 25 Такая речь улыбку пробудила У Стация; потом он начал так: «В твоих словах мне все их лаской мило. 28 Поистине, нередко внешний знак Приводит ложным видом в заблужденье, Тогда как суть погружена во мрак. 31 В твоем вопросе выразилось мненье, Что я был скуп; подумать так ты мог, Узнав о том, где я терпел мученье. 34 Так знай, что я от скупости далек Был даже слишком – и недаром бремя Нес много тысяч лун за мой порок. 37 И не исторгни я дурное семя, Внимая восклицанью твоему, Как бы клеймящему земное племя: 40 «Заветный голод к золоту, к чему Не направляешь ты сердца людские?»[974] – Я с дракой грузы двигал бы во тьму.[975] 43 Поняв, что крылья чересчур большие У слишком щедрых рук, и этот грех В себе я осудил, и остальные. 46 Как много стриженых воскреснет,[976] тех, Кто, и живя и в смертный миг, не чает, Что их вина не легче прочих всех! 49 И знай, что грех, который отражает Наоборот какойлибо иной, Свою с ним зелень вместе иссушает. 52 И если здесь я заодно с толпой, Клянущей скупость, жаждал очищенья, То как виновный встречною виной». 55 «Но ведь когда ты грозные сраженья Двойной печали Иокасты пел,[977] – Сказал воспевший мирные селенья,[978] – 58 То, как я там Клио[979] уразумел, Тобой как будто вера не водила, Та, без которой мало добрых дел. 61 Раз так, огонь какого же светила Иль светоча тебя разомрачил, Чтоб устремить за рыбарем[980] ветрила?» 64 И тот: «Меня ты первый устремил К Парнасу,[981] пить пещерных струй прохладу, И первый, после бога, озарил, 67 Ты был, как тот, кто за собой лампаду Несет в ночи и не себе дает, Но вслед идущим помощь и отраду, 70 Когда сказал: «Век обновленья ждет: Мир первых дней и правда – у порога, И новый отрок близится с высот».[982] 73 Ты дал мне петь, ты дал мне верить в бога! Но, чтоб все части сделались ясны, Я свой набросок расцвечу немного. 76 Уже был мир до самой глубины Проникнут правой верой, насажденной Посланниками неземной страны; 79 И так твой возглас, выше приведенный, Созвучен был словам учителей, Что к ним я стал ходить, как друг исконный. 82 Я видел в них таких святых людей, Что в дни Домициановых гонений[983] Их слезы не бывали без моей. 85 Пока я жил под кровом смертной сени, Я помогал им, и их строгий чин Меня отторг от всех других учений. 88 И, не доведши греческих дружин, В стихах, к фиванским рекам,[984] я крестился, Но утаил, что я христианин, 91 И показным язычеством прикрылся. За этот грех там, где четвертый круг, Четыре с лишним века я кружился. 94 Но ты, моим глазам раскрывший вдруг Все доброе, о чем мы говорили, Скажи, пока нам вверх идти досуг, 97 Где старый наш Теренций, где Цецилий, Где Варий, Плавт?[985] Что знаешь ты про них: Где обитают и осуждены ли?» 100 «Они, как Персий[986], я и ряд других, – Ответил вождь мой, – там, где грек[987], вспоенный Каменами щедрее остальных: 103 То – первый круг тюрьмы неозаренной, Где речь нередко о горе звучит, Семьей кормилиц наших населенной.[988] 106 Там с нами Антифонт и Еврипид, Там встретишь Симонида, Агафона[989] И многих, кто меж греков знаменит. 109 Там из тобой воспетых – Антигона, Аргейя, Деифила, и скорбям Верна Йемена, как во время оно; 112 Там дочь Тиресия, Фетида там, И Дейдамия с сестрами своими, И Лангию открывшая царям».[990] 115 Уже беседа смолкла между ними, И кругозор их был опять широк, Не сжатый больше стенами крутыми, 118 И четверо служанок дня свой срок Исполнило, и пятая вздымала, Над дышлом стоя, кверху жгучий рог,[991] 121 Когда мой вождь: «По мне бы, надлежало Кнаруже правым двигаться плечом, Как мы сходили с самого начала». 124 Здесь нам обычай стал поводырем; И так как был согласен дух высокий, Мы этим и направились путем. 127 Они пошли вперед; я, одинокий, Вослед; и слушал разговор певцов, Дававший мне поэзии уроки. 130 Но вскоре сладостные звуки слов Прервало древо, заградив дорогу, Пленительное запахом плодов. 133 Как ель все уже кверху понемногу, Так это – книзу, так что взлезть нельзя Хотя бы даже к нижнему отрогу. 136 С той стороны, где замкнута стезя, Со скал спадала блещущая влага И растекалась, по листам скользя. 139 Поэты стали в расстоянье шага; И некий голос, средь листвы незрим, Воскликнул: «Вам запретно это благо!»[992] 142 И вновь: «Мария не устам своим, За вас просящим, послужить желала, А лишь тому, чтоб вышел пир честным.[993] 145 У римлянок напитка не бывало Иного, чем вода; и Даниил Презрел еду, и мудрость в нем мужала. 148 Начальный век, как золото, светил, И голод желудями услаждался, И нектар жажде каждый ключ струил. 151 Акридами и медом насыщался Среди пустынь креститель Иоанн; А как велик и славен он остался, 154 Тому залог в Евангелии дан». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 Я устремлял глаза в густые чащи Зеленых листьев, как иной ловец, Изза пичужек жизнь свою губящий, 4 Но тот, кто был мне больше, чем отец, Промолвил: «Сын, пора идти; нам надо Полезней тратить время под конец». 7 Мой взгляд – и шаг ничуть не позже взгляда – Вслед мудрецам я обратил тотчас, И мне в пути их речь была отрада. 10 Вдруг плач и пенье донеслись до нас, – «Labia mea, Domine»,[994] – рождая И наслажденье, и печаль зараз. 13 «Отец, что это?» – молвил я, внимая. И он: «Быть может, тени там идут, Земного долга узел разрешая». 16 Как странники задумчиво бредут И, на пути настигнув проходящих, Оглянут незнакомцев и не ждут, 19 Так, обгоняя нас, не столь спешащих, Оглядывала нас со стороны Толпа теней, смиренных и молчащих. 22 Глаза их были впалы и темны, Бескровны лица, и так скудно тело, Что кости были с кожей сращены. 25 Не думаю, чтоб ссохся так всецело Сам Эрисихтон, даже досягнув, Голодный, до страшнейшего предела.[995] 28 «Вот те, – подумал я, на них взглянув, – Которые в Ерусалиме жили В дни Мариам, вонзившей в сына клюв».[996] 31 Как перстни без камней, глазницы были; Кто ищет «omo» на лице людском, Здесь букву М прочел бы без усилий.[997] 34 Кто, если он с причиной незнаком, Поверил бы, что тени чахнут тоже, Прельщаемые влагой и плодом? 37 Я удивлялся, как, ни с чем не схоже, Их страждущая плоть изморена, Их худобе и шелудивой коже; 40 И вот из глуби черепа одна В меня впилась глазами и вскричала: «Откуда эта милость мне дана?» 43 Ее лица я не узнал сначала, Но в голосе я сразу угадал То, что в обличье навсегда пропало. 46 От этой искры ярко засиял Знакомый образ, встав из тьмы бесследной, И я черты Форезе[998] увидал. 49 «О, не гнушайся этой кожей бледной, – Так он просил, – и струпною корой, И этой плотью, мясом слишком бедной! 52 Скажи мне правду о себе, открой, Кто эти души, два твоих собрата; Не откажись поговорить со мной!»
55 «Твой мертвый лик оплакал я когдато, – Сказал я, – но сейчас он так изрыт, Что сердце вновь не меньшей болью сжато. 58 Молю, скажи мне, что вас так мертвит; Я так дивлюсь, что мне не до ответа; Кто полн другим, тот плохо говорит». 61 И он: «По воле вечного совета То древо, позади нас, в брызгах вод, Томительною силою одето. 64 Поющий здесь и плачущий народ, За то, что угождал чрезмерно чреву, В алчбе и в жажде к святости идет. 67 Охоту есть и пить внушают зеву Пахучие плоды и водопад, Который растекается по древу. 70 И так не раз, пока они кружат, Свое терзанье обновляют тени, Или верней – отраду из отрад: 73 Ведь та же воля[999] шлет их к древней сени, Что слала и Христа воззвать «Или!»[1000], Когда спасла нас кровь его мучений». 76 И я ему: «С тех пор, как плен земли Твоя душа на лучший мир сменила, Еще пять лет, Форезе, не прошли. 79 И если раньше исчерпалась сила В тебе грешить, чем тяжкий твой порок Благая боль пред богом облегчила, 82 То как же ты сюда подняться мог? Я ждал тебя застать на нижней грани, Там, где выплачивают срок за срок».[1001] 85 И он мне: «Сладкую полынь страданий Испить так рано был я приведен Моею Неллой.[1002] Скорбь ее рыданий, 88 Ее мольбы и сокрушенный стон Меня оттуда извлекли до срока, Минуя все круги, на этот склон. 91 Тем драгоценней для господня ока Моя вдовица, милая жена, Что в доблести все больше одинока; 94 Сардинская Барбаджа[1003] – та скромна И женской честью может похваляться Пред той Барбаджей,[1004] где живет она. 97 О милый брат, к чему распространяться? Уже я вижу тот грядущий час, Которого недолго дожидаться, 100 Когда с амвона огласят указ, Чтоб воспретить бесстыжим флорентийкам Разгуливать с сосцами напоказ. 103 Каким дикаркам или сарацинкам Духовный или светский нужен бич, Чтоб с голой грудью не ходить по рынкам? 106 Когда б могли беспутницы постичь, Что быстрый бег небес припас их краю, Уже им рты раскрыл бы скорбный клич; 109 Беда, – когда я верно предрекаю, – Их ждет скорей, чем станет бородат Иной, кто спит сейчас под «баюбаю». 112 Но не таись передо мною, брат! Не – только я, но все, кто с нами рядом, Глядят туда, где свет тобой разъят». 115 Я молвил: «Если ты окинешь взглядом, Как ты со мной и я с тобой живал, Воспоминанье будет горьким ядом. 118 От жизни той меня мой вождь воззвал, На днях, когда над нами округленной Была (и я на солнце указал) 121 Сестра того.[1005] Меня он в тьме бездонной Провел средь истых мертвых, и за ним Я движусь, истой плотью облеченный. 124 Так я поднялся, им руководим, Всю эту гору огибая кружно, Где правят тех, кто в мире был кривым. 127 Он говорит, что мы дойдем содружно До высоты, где Беатриче ждет; А там ему меня покинуть нужно. 130 Так говорит Вергилий, этот вот (Я указал); другой – та тень святая, Которой ради дрогнул ваш оплот, 133 Из этих царств ее освобождая». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Ход не мешал речам, и речи – ходу; И мы вперед спешили, как спешит Корабль под ветром в добрую погоду. 4 А тени, дважды мертвые на вид, Провалы глаз уставив на живого, Являли ясно, как он их дивит. 7 Я, продолжая начатое слово, Сказал: «Она, быть может, к вышине Идет медлительней изза другого. 10 Но где Пиккарда,[1006] – скажешь ли ты мне? А здесь – кого бы вспомнить полагалось Из тех, кто мне дивится в тишине?» 13 «Моя сестра, чьей красоте равнялась Ее лишь благость, радостным венцом На высотах Олимпа[1007] увенчалась». 16 Так он сказал сначала; и потом: «Ничье прозванье здесь не под запретом; Ведь каждый облик выдоен постом. 19 Вот Бонаджунта Луккский,[1008] – и при этом Он пальцем указал, – а тот, щедрей, Чем прочие, расшитый темным цветом,[1009] 22 Святую церковь звал женой своей; Он был из Тура; искупает гладом Больсенских, сваренных в вине, угрей».[1010] 25 Еще он назвал многих, шедших рядом; И не был недоволен ни один: Я никого не видел с мрачным взглядом. 28 Там грыз впустую пильский Убальдин[1011] И Бонифаций, посохом Равенны Премногих пасший длинный ряд годин.[1012] 31 Там был мессер Маркезе;[1013] в век свой бренный Он мог в Форли, не иссыхая, пить, Но жаждой мучился ежемгновенной. 34 Как тот, кто смотрит, чтобы оценить, Я, посмотрев, избрал поэта Лукки, Который явно жаждал говорить. 37 Сквозь шепот, имя словно бы Джентукки Я чуял там,[1014] где сам он чуял зной Ниспосланной ему язвящей муки. 40 «Дух, если хочешь говорить со мной, – Сказал я, – сделай так, чтоб речь звучала И нам обоим принесла покой». 43 «Есть женщина, еще без покрывала,[1015] – Сказал он. – С ней отрадным ты найдешь Мой город, хоть его бранят немало. 46 Ты это предсказанье унесешь И, если понял шепот мой превратно, Потом увидишь, что оно не ложь.[1016] 49 Но ты ли тот, кто миру спел так внятно Песнь, чье начало я произношу: «Вы, жены, те, кому любовь понятна?» 52 И я: «Когда любовью я дышу, То я внимателен; ей только надо Мне подсказать слова, и я пишу».[1017] 55 И он: «Я вижу, в чем для нас преграда, Чем я, Гвиттон, Нотарий[1018] далеки От нового пленительного лада. 58 Я вижу, как послушно на листки Наносят ваши перья[1019] смысл внушенный, Что нам, конечно, было не с руки. 61 Вот все, на взгляд хоть самый изощренный, Чем разнятся и тот и этот лад». И он умолк, казалось – утоленный. 64 Как в воздухе сгрудившийся отряд Проворных птиц, зимующих вдоль Нила,[1020] Порой спешит, вытягиваясь в ряд, 67 Так вся толпа вдруг лица отвратила И быстрым шагом дальше понеслась, От худобы и воли легкокрыла. 70 И словно тот, кто, бегом утомясь, Из спутников рад пропустить любого, Чтоб отдышаться, медленно пройдясь, 73 Так здесь, отстав от сонмища святого, Форезе шел со мной, нетороплив, И молвил: «Скоро ль встретимся мы снова?» 76 И я: «Не знаю, сколько буду жив; Пусть даже близок берег, но желанье К нему летит, меня опередив; 79 Затем что край, мне данный в обитанье,[1021] Что день – скуднее доблестью одет И скорбное предвидит увяданье». 82 И он: «Иди. Зачинщика всех бед Звериный хвост, – мне это въяве зримо, – Влачит к ущелью, где пощады нет. 85 Зверь мчится все быстрей, неудержимо, И тот уже растерзан, и на срам Оставлен труп, простертый недвижимо. 88 Не много раз вращаться тем кругам (Он вверх взглянул), чтобы ты понял ясно То, что ясней не вымолвлю я сам.[1022] 91 Теперь простимся; время здесь всевластно, А, идя равной поступью с тобой, Я принужден терять его напрасно». 94 Как, отделясь от едущих гурьбой, Наездник мчит коня насколько можно, Чтоб, ради славы, первым встретить бой, 97 Так, торопясь, он зашагал тревожно; И вновь со мной остались эти два, Чье имя в мире было столь вельможно. 100 Уже его я различал едва, И он не больше был доступен взгляду, Чем были разуму его слова, 103 Когда живую, всю в плодах, громаду Другого древа я увидел вдруг, Крутого склона обогнув преграду. 106 Я видел – люди, вскинув кисти рук, Взывали к листьям, веющим широко, Как просит детвора, теснясь вокруг, 109 А окруженный не дает до срока, Но, чтобы зуд желания возрос, Приманку держит на виду высоко. 112 Потом ушли, как пробудясь от грез. Мы подступили, приближаясь слева, К стволу, не внемлющему просьб и слез. 115 «Идите мимо! Это отпрыск древа, Которое растет на высотах И от которого вкусила Ева».[1023] 118 Так чейто голос говорил в листах; И мы, теснясь, запретные пределы Вдоль кручи обогнули второпях. 121 «Припомните, – он говорил, – Нефелы Проклятый род, когда он, сыт и пьян, На бой с Тезеем ринулся, двутелый;[1024] 124 И как вольготно пил еврейский стан, За что и был отвергнут Гедеоном, Когда с холмов он шел на Мадиан».[1025] 127 Так, стороною, под нависшим склоном, Мы шли и слушали про грех обжор, Сопровожденный горестным уроном. 130 Потом, все трое, вышли на простор И так прошли в раздумье, молчаливы, За тысячу шагов, потупя взор. 133 «О чем бы так задуматься могли вы?» – Нежданный голос громко прозвучал, Так что я вздрогнул, словно зверь пугливый. 136 Я поднял взгляд; вовеки не блистал Настолько ослепительно и ало В горниле сплав стекла или металл, 139 Как тот блистал, чье слово нас встречало: «Чтобы подняться на гору, здесь вход; Идущим к миру – здесь идти пристало». 142 Мой взор затмился, встретив облик тот; И я пошел вослед за мудрецами, Как человек, когда на слух идет. 145 И как перед рассветными лучами Благоухает майский ветерок, Травою напоенный и цветами, 148 Так легкий ветер мне чело облек, И я почуял перьев мановенье, Распространявших амврозийный ток, 151 И услыхал: «Блажен, чье озаренье Столь благодатно, что ему чужда Услада уст и вкуса вожделенье, 154 Чтоб не алкать сверх меры никогда». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 1 Час понуждал быстрей идти по всклону, Затем что солнцем полудённый круг Был сдан Тельцу, а ночью – Скорпиону;[1026] 4 И словно тот, кто не глядит вокруг, Но направляет к цели шаг упорный, Когда ему помедлить недосуг, 7 Мы, друг за другом, шли тесниной горной, Где ступеней стесненная гряда Была как раз для одного просторной. 10 Как юный аист крылья иногда Поднимет к взлету и опустит снова, Не смея оторваться от гнезда, 13 Так и во мне, уже вспылать готова, Тотчас же угасала речь моя, И мой вопрос не претворялся в слово. 16 Отец мой, видя, как колеблюсь я, Сказал мне на ходу: «Стреляй же смело, Раз ты свой лук напряг до острия!» 19 Раскрыв уста уже не оробело: «Как можно изнуряться, – я сказал, – Там, где питать не требуется тело?» 22 «Припомни то, как Мелеагр сгорал,[1027] Когда подверглась головня сожженью, И минет горечь, – он мне отвечал. – 25 И, рассудив, как всякому движенью Движеньем вторят ваши зеркала,[1028] Ты жесткое принудишь к размягченью. 28 Но, чтобы мысль твоя покой нашла, Вот Стаций здесь; и я к нему взываю, Чтобы твоя болячка зажила». 31 «Прости, что вечный строй я излагаю В твоем присутствии, – сказал поэт. – Но отказать тебе я не дерзаю». 34 Потом он начал: «Если мой ответ Ты примешь в разуменье, сын мой милый, То сказанному «как» прольется свет. 37 Беспримесная кровь, которой жилы Вобрать не могут в жаждущую пасть, Как лишнее, чего доесть нет силы, 40 Приемлет в сердце творческую власть Образовать собой все тело ваше, Как в жилах кровь творит любую часть. 43 Очистясь вновь и в то сойдя, что краше Не называть, впоследствии она Сливается с чужой в природной чаше. 46 Здесь та и эта соединена, Та – покоряясь, эта – созидая, Затем что в высшем месте[1029] рождена. 49 Смешавшись с той и к делу приступая, Она ее сгущает, сгусток свой, Раз созданный, помалу оживляя. 52 Зиждительная сила, став душой, Лишь тем отличной от души растенья, Что та дошла, а этой – путь большой, 55 Усваивает чувства и движенья, Как гриб морской, и нужные дает Зачатым свойствам средства выраженья. 58 Так ширится, мой сын, и так растет То, что в родящем сердце пребывало, Где естество всю плоть предсоздает. 61 Но уловить, как тварь младенцем стала, Не так легко, и здесь ты видишь тьму; Мудрейшего, чем ты, она сбивала, 64 И он учил, что, судя по всему, Душа с возможным разумом не слита, Затем что нет вместилища ему.[1030] 67 Но если правде грудь твоя открыта, Знай, что, едва зародыш завершен И мозговая ткань вполне развита, 70 Прадвижитель, в веселии склонен, Прекрасный труд природы созерцает, И новый дух в него вдыхает он, 73 Который все, что там росло, вбирает; И вот душа, слиянная в одно, Живет, и чувствует, и постигает. 76 И если то, что я сказал, темно, Взгляни, как в соке, что из лоз сочится, Жар солнца превращается в вино. 79 Когда ж у Лахезис[1031] весь лен ссучится, Душа спешит из тела прочь, но в ней И бренное, и вечное таится. 82 Безмолвствуют все свойства прежних дней; Но память, разум, воля – те намного В деянии становятся острей. 85 Она летит, не медля у порога, Чудесно к одному из берегов;[1032] Ей только здесь ясна ее дорога. 88 Чуть дух очерчен местом, вновь готов Поток творящей силы излучаться, Как прежде он питал плотской покров. 91 Как воздух, если в нем пары клубятся И чуждый луч их мгла в себе дробит, Различно начинает расцвечаться, 94 Так ближний воздух принимает вид, В какой его, воздействуя, приводит Душа, которая внутри стоит.[1033] 97 И как сиянье повсеместно ходит За пламенем и неразрывно с ним, Так новый облик вслед за духом бродит 100 И, так как тот через него стал зрим, Зовется тенью; ею создаются Орудья чувствам – зренью и другим. 103 У нас владеют речью и смеются, Нам свойственны и плач, и вздох, и стон, Как здесь они, ты слышал, раздаются. 106 И все, чей дух взволнован и смущен, Сквозит в обличье тени; оттогото И был ты нашим видом удивлен».[1034] 109 Последнего достигнув поворота, Мы обратились к правой стороне, И нас другая заняла забота. 112 Здесь горный склон – в бушующем огне, А из обрыва ветер бьет, взлетая, И пригибает пламя вновь к стене; 115 Нам приходилось двигаться вдоль края, По одному; так шел я, здесь – огня, А там – паденья робко избегая. 118 «Тут надо, – вождь остерегал меня, – Глаза держать в поводьях неустанно, Себя все время от беды храня». 121 «Summae Deus clementiae»,[1035] – нежданно Из пламени напев донесся к нам; Мне было все же и взглянуть желанно, 124 И я увидел духов, шедших там; И то их путь, то вновь каймы полоска Мой взор распределяли пополам. 127 Чуть гимн умолк, как «Virum non cognosco!»[1036] – Раздался крик. И снова песнь текла, Подобием глухого отголоска. 130 И снова крик: «Диана не могла В своем лесу терпеть позор Гелики,[1037] Вкусившей яд Венеры». И была 133 Вновь песнь; и вновь превозносили клики Жен и мужей, чей брак для многих впредь Явил пример, безгрешностью великий. 136 Так, вероятно, восклицать и петь Им в том огне все время полагалось; Таков бальзам их, такова их снедь, 139 Чтоб язва наконец зарубцевалась. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 1 Пока мы шли, друг другу вслед, по краю И добрый вождь твердил не раз еще: «Будь осторожен, я предупреждаю!» – 4 Мне солнце било в правое плечо И целый запад в белый превращало Из синего, сияя горячо; 7 И где ложилась тень моя, там ало Казалось пламя; и толпа была, В нем проходя, удивлена немало. 10 Речь между ними обо мне зашла, И тень, я слышал, тени говорила: «Не таковы бесплотные тела». 13 Иные подались, сколь можно было, Ко мне, стараясь, как являл их вид, Ступать не там, где их бы не палило. 16 «О ты, кому почтительность[1038] велит, Должно быть, сдерживать поспешность шага, Ответь тому, кто жаждет и горит![1039] 19 Не только мне ответ твой будет благо: Он этим всем нужнее, чем нужна Индийцу или эфиопу влага. 22 Скажи нам, почему ты – как стена Для солнца, словно ты еще не встретил Сетей кончины». Так из душ одна[1040] 25 Мне говорила; я бы ей ответил Без промедленья, но как раз тогда Мой взгляд иное зрелище приметил. 28 Навстречу этой новая чреда Шла по пути, объятому пыланьем, И я помедлил, чтоб взглянуть туда. 31 Вдруг вижу – тени, здесь и там, лобзаньем Спешат друг к другу на ходу прильнуть И кратким утешаются свиданьем. 34 Так муравьи, столкнувшись гденибудь, Потрутся рыльцами, чтобы дознаться, Быть может, про добычу и про путь. 37 Но только миг объятья дружбы длятся, И с первым шагом на пути своем Одни других перекричать стремятся, – 40 Те, новые: «Гоморра и Содом!»,[1041] А эти: «В телку лезет Пасифая[1042], Желая похоть утолить с бычком!» 43 Как если б журавлей летела стая – Одна к пескам, другая на Рифей,[1043] Та – стужи, эта – солнца избегая, 46 Так расстаются две чреды теней, Чтоб снова петь в слезах обычным ладом И восклицать про то, что им сродней. 49 И двинулись опять со мною рядом Те, что меня просили дать ответ, Готовность слушать выражая взглядом. 52 Я, видя вновь, что им покоя нет, Сказал: «О души, к свету мирной славы Обретшие ведущий верно след, 55 Мой прах, незрелый или величавый, Не там остался: здесь я во плоти, Со мной и кровь ее, и все суставы. 58 Я вверх иду, чтоб зренье обрести: Там есть жена,[1044] чья милость мне дарует Сквозь ваши страны смертное нести. 61 Но, – и скорее да восторжествует Желанье ваше, чтоб вас принял храм Той высшей тверди, где любовь ликует, – 64 Скажите мне, а я письму предам, Кто вы и эти люди кто такие, Которые от вас уходят там». 67 Так смотрит, губы растворив, немые От изумленья, дикий житель гор, Когда он в город попадет впервые, 70 Как эти на меня стремили взор. Едва с них спало бремя удивленья, – Высокий дух дает ему отпор, – 73 «Блажен, кто, наши посетив селенья, – Вновь начал тот, кто прежде говорил, – Для лучшей смерти черплет наставленья! 76 Народ, идущий с нами врозь, грешил Тем самым, чем когдато Цезарь клики «Царица» в день триумфа заслужил.[1045] 79 Поэтому «Содом» гласят их крики, Как ты слыхал, и совесть их язвит, И в помощь пламени их стыд великий. 82 Наш грех, напротив, был гермафродит; Но мы забыли о людском законе, Спеша насытить страсть, как скот спешит, 85 И потому, сходясь на этом склоне, Себе в позор, мы поминаем ту, Что скотенела, лежа в скотском лоне.[1046] 88 Ты нашей казни видишь правоту; Назвать всех порознь мы бы не успели, Да я на память и не перечту. 91 Что до меня, я – Гвидо Гвиницелли;[1047] Уже свой грех я начал искупать, Как те, что рано сердцем восскорбели». 94 Как сыновья, увидевшие мать Во времена Ликурговой печали, Таков был я, – не смея показать, – 97 При имени того, кого считали Отцом и я, и лучшие меня, Когда любовь так сладко воспевали.[1048] 100 И глух, и нем, и мысль в тиши храня, Я долго шел, в лицо его взирая, Но подступить не мог изза огня. 103 Насытя взгляд, я молвил, что любая Пред ним заслуга мне милей всего, Словами клятвы в этом заверяя. 106 И он мне: «От признанья твоего[1049] Я сохранил столь светлый след, что Лета Бессильна смыть иль омрачить его. 109 Но если прямодушна клятва эта,[1050] Скажи мне: чем я для тебя так мил, Что речь твоя и взор полны привета?» 112 «Стихами вашими, – ответ мой был. – Пока продлится то, что ныне ново,[1051] Нетленна будет прелесть их чернил». 115 «Брат, – молвил он, – вот тот[1052] (и на другого Он пальцем указал среди огней) Получше был ковач родного слова. 118 В стихах любви и в сказах[1053] он сильней Всех прочих; для одних глупцов погудка, Что Лимузинец[1054] перед ним славней. 121 У них к молве, не к правде ухо чутко, И мненьем прочих каждый убежден, Не слушая искусства и рассудка. 124 «Таков для многих старых был Гвиттон[1055], Из уст в уста единственно прославлен, Покуда не был многими сражен. 127 Но раз тебе простор столь дивный явлен, Что ты волен к обители взойти, К той, где Христос игуменом поставлен, 130 Там за меня из «Отче наш» прочти Все то, что нужно здешнему народу, Который в грех уже нельзя ввести». 133 Затем, – быть может, чтобы дать свободу Другим идущим, – он исчез в огне, Подобно рыбе, уходящей в воду. 136 Я подошел к указанному мне, Сказав, что вряд ли я чье имя в мире Так приютил бы в тайной глубине. 139 Он начал так, шагая в знойном вире: «Tan m'abellis vostre cortes deman, Qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 142 Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; Consiros vei la passada folor, E vei jausen lo joi qu'esper, denan. 145 Ara vos prec, per aquella valor Que vos guida al som de l'escalina, Sovenha vos a temps de ma dolor!»[1056] 148 И скрылся там, где скверну жжет пучина. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 1 Так, чтоб ударить первыми лучами В те страны, где его творец угас, Меж тем как Эбро льется под Весами, 4 А волны в Ганге жжет полдневный час, Стояло солнце; меркнул день, сгорая,[1057] Когда господень ангел встретил нас. 7 «Beati mundo corde!»[1058] воспевая Звучней, чем песни на земле звучны, Он высился вне пламени, у края. 10 «Святые души, вы пройти должны Укус огня; идите в жгучем зное И слушайте напев с той стороны!» 13 Он подал нам напутствие такое, И, слыша эту речь, я стал как тот, Кто будет в недро погружен земное. 16 Я, руки сжав и наклонясь вперед, Смотрел в огонь, и в памяти ожили Тела людей, которых пламя жжет. 19 Тогда ко мне поэты обратили Свой взгляд. «Мой сын, переступи порог: Здесь мука, но не смерть, – сказал Вергилий. – 22 Ты – вспомни, вспомни!.. Если я помог Тебе спуститься вглубь на Герионе, Мне ль не помочь, когда к нам ближе бог? 25 И знай, что если б в этом жгучем лоне Ты хоть тысячелетие провел, Ты не был бы и на волос в уроне. 28 И если б ты проверить предпочел, Что я не обманул тебя нимало, Стань у огня и поднеси подол. 31 Отбрось, отбрось все, что твой дух сковало! Взгляни – и шествуй смелою стопой!» А я не шел, как совесть ни взывала. 34 При виде черствой косности такой Он, чуть смущенный, молвил: «Сын, ведь это Стена меж Беатриче и тобой». 37 Как очи, угасавшие для света, На имя Фисбы приоткрыл Пирам Под тутом, ставшим кровяного цвета,[1059] 40 Так, умягчен и больше не упрям, Я взор к нему направил молчаливый, Услышав имя, милое мечтам. 43 А он, кивнув, сказал: «Ну как, ленивый? Чего мы ждем?» И улыбнулся мне, Как мальчику, прельстившемуся сливой. 46 И он передо мной исчез в огне, Прося, чтоб Стаций третьим шел, доныне Деливший нас в пути по крутизне. 49 Вступив, я был бы рад остыть в пучине Кипящего стекла, настолько злей Был непомерный зной посередине. 52 Мой добрый вождь, чтобы я шел смелей, Вел речь о Беатриче, повторяя: «Я словно вижу взор ее очей». 55 Нас голос вел, сквозь пламя призывая; И, двигаясь туда, где он звенел, Мы вышли там, где есть тропа крутая. 58 Он посреди такого света пел «Venite, benedicti Patris mei!»,[1060] Что яркости мой взгляд не одолел. 61 «Уходит солнце, скоро ночь. Быстрее Идите в гору, – он потом сказал, – Пока закатный край не стал чернее». 64 Тропа шла прямо вверх среди двух скал И так, что свет последних излучений Я пред собой у солнца отнимал; 67 Преодолев немногие ступени, Мы ощутили солнечный заход Там, сзади нас, по угасанью тени. 70 И прежде чем огромный небосвод Так потемнел, что все в нем стало схоже И щедрой ночи наступил черед, 73 Для нас ступени превратились в ложе, Затем что горный мрак от нас унес И мощь к подъему, и желанье тоже. 76 Как, мямля жвачку, тихнет стадо коз, Которое, пока не стало сыто, Спешило вскачь с утеса на утес, 79 И ждет в тени, пока жара разлита, А пастырь, опершись на посошок, Стоит вблизи, чтоб им была защита, 82 И как овчар, от хижины далек, С гуртом своим проводит ночь в покое, Следя, чтоб зверь добычу не увлек; 85 Так в эту пору были мы все трое, Я – за козу, они – за сторожей, Замкнутые в ущелие крутое. 88 Простор был скрыт громадами камней, Но над тесниной звезды мне сияли, Светлее, чем обычно, и крупней. 91 Так, полон дум и, глядя в эти дали, Я был охвачен сном; а часто сон Вещает то, о чем и не гадали. 94 Должно быть, в час, когда на горный склон С востока Цитерея[1061] засияла, Чей свет как бы любовью напоен, 97 Мне снилось – на лугу цветы сбирала Прекрасная и юная жена, И так она, сбирая, напевала: 100 «Чтоб всякий ведал, как я названа, Я – Лия, и, прекрасными руками Плетя венок, я здесь брожу одна. 103 Для зеркала я уберусь цветами; Сестра моя Рахиль с его стекла Не сводит глаз и недвижима днями. 106 Ей красота ее очей мила, Как мне – сплетенный мной убор цветочный; Ей любо созерцанье, мне – дела».[1062] 109 Но вот уже перед зарей восточной, Которая скитальцам тем милей, Чем ближе к дому их привал полночный, 112 Везде бежала тьма, и сон мой с ней; Тогда я встал с одра отдохновенья, Увидя вставшими учителей. 115 «Тот сладкий плод,[1063] который поколенья Тревожно ищут по стольким ветвям, Сегодня утолит твои томленья». 118 Со мною говоря, к таким словам Прибег Вергилий; вряд ли чья щедрота Была безмерней по своим дарам. 121 За мигом миг во мне росла охота Быть наверху, и словно перья крыл Я с каждым шагом ширил для полета. 124 Когда под нами весь уклон проплыл И мы достигли высоты конечной, Ко мне глаза Вергилий устремил, 127 Сказав: «И временный огонь, и вечный Ты видел, сын, и ты достиг земли, Где смутен взгляд мой, прежде безупречный. 130 Тебя мой ум и знания вели; Теперь своим руководись советом: Все кручи, все теснины мы прошли. 133 Вот солнце лоб твой озаряет светом; Вот лес, цветы и травяной ковер, Самовозросшие в пространстве этом. 136 Пока не снизошел счастливый взор Той, что в слезах тогда пришла за мною, Сиди, броди – тебе во всем простор. 139 Отныне уст я больше не открою; Свободен, прям и здрав твой дух; во всем Судья ты сам; я над самим тобою 142 Тебя венчаю митрой и венцом».[1064] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 1 В великой жажде обойти дозором Господень лес,[1065] тенистый и живой, Где новый день смягчался перед взором, 4 Я медленно от кручи круговой Пошел нагорьем, и земля дышала Со всех сторон цветами и травой. 7 Ласкающее веянье, нимало Не изменяясь, мне мое чело Как будто нежным ветром обдавало 10 И трепетную сень вершин гнело В ту сторону, куда гора святая Бросает тень, как только рассвело, – 13 Но все же не настолько их сгибая, Чтобы умолкли птички, оробев И все свои искусства прерывая: 16 Они, ликуя посреди дерев, Встречали песнью веянье востока В листве, гудевшей их стихам припев, 19 Тот самый, что в ветвях растет широко, Над взморьем Кьясси наполняя бор,[1066] Когда Эол[1067] освободит Сирокко. 22 Я между тем так далеко простер Мой путь сквозь древний лес, что понемногу Со всех сторон замкнулся кругозор. 25 И вдруг поток[1068] мне преградил дорогу, Который мелким трепетом волны Клонил налево травы по отлогу. 28 Чистейшие из вод земной страны Наполнены как будто мутью сорной Пред этою, сквозной до глубины, 31 Хотя она струится чернойчерной Под вековечной тенью, для лучей И солнечных, и лунных необорной. 34 Остановясь, я перешел ручей Глазами, чтобы видеть, как растенья Разнообразны в свежести своей. 37 И вот передо мной, как те явленья, Когда нежданно в нас устранена Любая дума силой удивленья, 40 Явилась женщина,[1069] и шла одна, И пела, отбирая цвет от цвета, Которых там пестрела пелена. 43 «О женщина, чья красота согрета Лучом любви, коль внешний вид не ложь, Но сердца достоверная примета, – 46 Быть может, ты поближе подойдешь, – Сказал я ей, – и станешь над стремниной, Чтоб я расслышать мог, что ты поешь? 49 Ты кажешься мне юной Прозерпиной, Когда расстаться близился черед Церере – с ней, ей – с вешнею долиной».[1070] 52 Как чтобы в пляске сделать поворот, Она, скользя сомкнутыми стопами И мелким шагом двигаясь вперед, 55 Меж алыми и желтыми цветами К моей оборотилась стороне С девически склоненными глазами; 58 И мой призыв был утолен вполне, Когда она так близко подступила, Что смысл напева долетал ко мне. 61 Придя туда, где побережье было Уже омыто дивною рекой, Открытый взор она мне подарила. 64 Едва ли мог струиться блеск такой Изпод ресниц Венеры, уязвленной Негаданно сыновнею рукой.[1071] 67 Среди травы, волнами орошенной, Она, смеясь, готовила венок, Без семени на высоте рожденный. 70 На три шага нас разделял поток; Но Геллеспонт, где Ксеркс познал невзгоду, Людской гордыне навсегда урок,[1072] 73 Леандру был милее в непогоду, Когда он плыл из Абидоса в Сест,[1073] Чем мне – вот этот, не разъявший воду. 76 «Вы внове здесь; мой смех средь этих мест,[1074] Где людям был приют от всех несчастий, – Так начала она, взглянув окрест, – 79 Мог удивить вас и смутить отчасти; Но ум ваш озарится светом дня, Вникая в псалмопенье «Delectasti».[1075] 82 Ты, впереди,[1076] который звал меня, Спроси, что хочешь; я на все готова Подать ответ, все точно изъясня». 85 «Вода и шум лесной, – сказал я снова, – Колеблют то, что моему уму Внушило слышанное прежде слово».[1077] 88 На что она: «Сомненью твоему Я их причину до конца раскрою И сжавшую тебя рассею тьму. 91 Творец всех благ, довольный лишь собою, Ввел человека добрым, для добра, Сюда, в преддверье к вечному покою. 94 Виной людей пресеклась та пора, И превратились в боль и в плач по старом Безгрешный смех и сладкая игра. 97 Чтоб смуты, порождаемые паром, Который от воды и от земли Идет, по мере силы, вслед за жаром, 100 Тревожить человека не могли, Гора вздыбилась так, что их не знает Над уровнем ворот, где вы вошли. 103 Но так как с первой твердью круг свершает Весь воздух, если воздуху вразрез Какойлибо заслон не возникает, 106 То здесь, в чистейшей высоте небес, Его круговорот деревья клонит И наполняет шумом частый лес.[1078] 109 Растение, которое он тронет, Ему вверяет долю сил своих, И он, кружа, ее вдали уронит; 112 Так в дальних землях, если свойства их Иль их небес пригодны, возникая, Восходит много отпрысков живых. 115 И там бы не дивились, это зная, Тому, что иногда ростки растут, Без видимого семени вставая. 118 И знай про этот дивный лес, что тут Земля богата всяческою силой И есть плоды, которых там не рвут. 121 И этот вот поток рожден не жилой, В которой охладелый пар скоплен И вдаль течет, то буйный, то унылый; 124 Его источник прочен и силен И черплет от господних изволений Все, что он льет, открытый с двух сторон. 127 Струясь сюда – он память согрешений Снимает у людей; струясь туда – Дарует память всех благих свершений. 130 Здесь – Лета; там – Эвноя; но всегда И здесь, и там сперва отведать надо, Чтоб оказалась действенной вода. 133 В ее вкушенье – высшая услада.[1079] Хоть, может быть, ты жажду утолил Услышанным, но я была бы рада, 136 Чтоб ты в подарок вывод получил; Тебе он не обещан, но едва ли От этого он станет меньше мил. 139 Те, что в стихах когдато воспевали Былых людей и золотой их век, Быть может, здесь в парнасских снах[1080] витали: 142 Здесь был невинен первый человек, Здесь вечный май, в плодах, как поздним летом, И нектар – это воды здешних рек». 145 Я обратил лицо к моим поэтам И здесь улыбку их упомяну, Мелькнувшую при утвержденье этом; 148 Потом взглянул на дивную жену. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 1 Как бы любовной негою объята, Окончив речь, она запела так: «Beati, quorum tecta sunt peccata!»[1081] 4 Как нимфы направляли легкий шаг, Совсем одни, сквозь тень лесов, желая: Та – видеть солнце, та – уйти во мрак, – 7 Она пошла вверх по реке, ступая Вдоль берега; я – также, к ней плечом И поступь с мелкой поступью ровняя. 10 Мы, ста шагов не насчитав вдвоем, Дошли туда, где русло загибало, И я к востоку повернул лицом. 13 Здесь мы пройти успели столь же мало, Когда она, всем телом обратясь: «Мой брат, смотри и слушай!» – мне сказала. 16 И вдруг лесная глубина зажглась Блистаньем неожиданного света, Как молнией внезапно озарясь; 19 Но молния, сверкнув, исчезнет гдето, А этот свет, возникнув, возрастал, Так что я в мыслях говорил: «Что это?» 22 Какимто нежным звуком зазвучал Лучистый воздух; скорбно и сурово Я дерзновенье Евы осуждал: 25 Земля и твердь блюли господне слово, А женщина, одна, чуть создана, Не захотела потерпеть покрова;[1082] 28 Пребудь под ним покорною она, Была бы радость несказанных сеней И раньше мной, и дольше вкушена.[1083] 31 Пока я шел средь стольких предварений Всевечной неги, мыслью оробев И жаждая все больших упоений, 34 Пред нами воздух под листвой дерев Стал словно пламень, осияв дубраву, И сладкий звук переходил в напев. 37 Сонм дев священных,[1084] если вам во славу Я ведал голод, стужу, скудный сон, Себе награды я прошу по праву. 40 Пусть для меня прольется Геликон[1085], И да внушат мне Урания с хором[1086] Стихи о том, чем самый ум смущен. 43 Вдали, за искажающим простором,[1087] Который от меня их отделял, Семь золотых дерев являлись взорам; 46 Когда ж я к ним настолько близок стал, Что мнящийся предмет, для чувств обманный, Отдельных свойств за далью не терял, 49 То дар, уму для различенья данный, Светильники[1088] признал в седмице той, А пенье голосов признал «Осанной». 52 Светлей пылал верхами чудный строй, Чем полночью в просторах тверди ясной Пылает полный месяц над землей. 55 Я в изумленье бросил взгляд напрасный Вергилию, и мне ответил он Таким же взглядом, как и я – безгласный. 58 Мой взор был снова к дивам обращен, Все надвигавшимся в строю широком Медлительнее новобрачных жен. 61 «Ты что ж, – сказала женщина с упреком, – Горящий взгляд стремишь к живым огням, А что за ними – не окинешь оком?» 64 И я увидел: вслед, как вслед вождям, Чреда людей, вся в белом, выступала, И белизны такой не ведать нам. 67 Вода налево от меня сверкала И возвращала мне мой левый бок, Едва я озирался, – как зерцало. 70 Когда я был настолько недалек, Что мы всего лишь речкой разделялись, Я шаг прервал и лучше видеть мог. 73 А огоньки все ближе надвигались, И, словно кистью проведены, За ними волны, крася воздух, стлались; 76 Все семь полос, отчетливо видны, Напоминали яркими цветами Лук солнца или перевязь луны.[1089] 79 Длину всех этих стягов я глазами Не озирал; меж крайними просвет Измерился бы десятью шагами. 82 Под чудной сенью шло двенадцать чет Маститых старцев,[1090] двигаясь степенно, И каждого венчал лилейный цвет. 85 Все воспевали песнь: «Благословенна Ты в дочерях Адама, и светла Краса твоя и навсегда нетленна!» 88 Когда чреда избранная прошла И свежую траву освободила, Которою та сторона цвела, – 91 Как вслед светилам вставшие светила, Четыре зверя[1091] взор мой различил. Их лбы листва зеленая обвила; 94 У каждого – шесть оперенных крыл; Крыла – полны очей; я лишь означу, Что так смотрел бы Аргус[1092], если б жил. 97 Чтоб начертать их облик, я не трачу Стихов, читатель; непосильно мне При щедрости исполнить всю задачу. 100 Прочти Езекииля; он вполне Их описал, от северного края Идущих в ветре, в туче и в огне. 103 Как на его листах, совсем такая Наружность их; в одной лишь из статей Я с Иоанном – крылья исчисляя.[1093] 106 Двуколая, меж четырех зверей Победная повозка[1094] возвышалась, И впряженный Грифон[1095] шел перед ней. 109 Он крылья так держал, что отделялась Срединная от трех и трех полос, И ни одна разъятьем не ломалась. 112 К вершинам крыл я тщетно взгляд вознес; Он был золототел, где он был птицей, А в остальном – как смесь лилей и роз. 115 Не то, чтоб Август равной колесницей Не тешил Рима, или Сципион,[1096] – Сам выезд Солнца был бедней сторицей, 118 Тот выезд Солнца, что упал, спален, Когда Земля взмолилася в печали И Дий творил свой праведный закон.[1097] 121 У правой ступицы, кружа, плясали Три женщины; одна – совсем ала; Ее в огне с трудом бы распознали; 124 Другая словно создана была Из плоти, даже кости, изумрудной; И третья – как недавний снег бела. 127 То белая вела их в пляске чудной, То алая, чья песнь у всех зараз То легкой поступь делала, то трудной.[1098] 130 А слева – четверо вели свой пляс, Одеты в пурпур, повинуясь ладу Одной из них, имевшей третий глаз.[1099] 133 За этим сонмищем предстали взгляду Два старца, сходных обликом благим И твердым, но несходных по наряду; 136 Так, одного питомцем бы своим Счел Гиппократ, природой сотворенный На благо самым милым ей живым; 139 Обратною заботой поглощенный, Второй сверкал столь режущим мечом, Что я глядел чрез реку, устрашенный.[1100] 142 Прошли смиренных четверо[1101] потом; И одинокий старец, вслед за ними, Ступал во сне, с провидящим челом.[1102] 145 Все семь от первых ризами своими Не отличались; но взамен лилей Венчали розы наравне с другими 148 Багряными цветами снег кудрей; Далекий взор клялся бы, что их лица Огнем пылают кверху от бровей. 151 Когда со мной равнялась колесница, Раздался гром; и, словно возбранен Был дальше ход, святая вереница 154 Остановилась позади знамен.[1103] ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ 1 Когда небес верховных семизвездье, Чьей славе чужд закат или восход И мгла иная, чем вины возмездье, 4 Всем указуя должных дел черед, Как указует нижнее деснице Того, кто судно к пристани ведет, 7 Остановилось,[1104] – шедший в веренице, Перед Грифоном, праведный собор С отрадой обратился к колеснице; 10 Один, подъемля вдохновенный взор, Спел: «Veni, sponsa, de Libano, veni!»[1105] – Воззвав трикраты, и за ним весь хор. 13 Как сонм блаженных из могильной сени, Спеша, восстанет на призывный звук, В земной плоти, воскресшей для хвалений, 16 Так над небесной колесницей вдруг. Возникло сто, ad vocem tanti senis,[1106] Всевечной жизни вестников и слуг.[1107] 19 И каждый пел: «Benedictus qui venis!»[1108] И, рассыпая вверх и вкруг цветы, Звал: «Manibus о date lilia plenis!»[1109] 22 Как иногда багрянцем залиты В начале утра области востока, А небеса прекрасны и чисты, 25 И солнца лик, поднявшись невысоко, Настолько застлан мягкостью паров, Что на него спокойно смотрит око, – 28 Так в легкой туче ангельских цветов, Взлетавших и свергавшихся обвалом На дивный воз и вне его краев, 31 В венке олив, под белым покрывалом, Предстала женщина,[1110] облачена В зеленый плащ и в платье огнеалом. 34 И дух мой, – хоть умчались времена, Когда его ввергала в содроганье Одним своим присутствием она, 37 А здесь неполным было созерцанье, – Пред тайной силой, шедшей от нее, Былой любви изведал обаянье. 40 Едва в лицо ударила мое Та сила, чье, став отроком, я вскоре Разящее почуял острие, 43 Я глянул влево, – с той мольбой во взоре, С какой ребенок ищет мать свою И к ней бежит в испуге или в горе, – 46 Сказать Вергилию: «Всю кровь мою Пронизывает трепет несказанный: Следы огня былого узнаю!» 49 Но мой Вергилий в этот миг нежданный Исчез, Вергилий, мой отец и вождь, Вергилий, мне для избавленья данный. 52 Все чудеса запретных Еве рощ Омытого росой[1111] не оградили От слез, пролившихся, как черный дождь. 55 «Дант, оттого что отошел Вергилий, Не плачь, не плачь еще; не этот меч Тебе для плача жребии судили». 58 Как адмирал, чтобы людей увлечь На кораблях воинственной станицы, То с носа, то с кормы к ним держит речь, 61 Такой, над левым краем колесницы, Чуть я взглянул при имени своем, Здесь поневоле вписанном в страницы, 64 Возникшая с завешенным челом Средь ангельского празднества – стояла, Ко мне чрез реку обратясь лицом. 67 Хотя опущенное покрывало, Окружено Минервиной листвой,[1112] Ее открыто видеть не давало, 70 Но, с царственно взнесенной головой, Она промолвила, храня обличье Того, кто гнев удерживает свой: 73 «Взгляни смелей! Да, да, я – Беатриче. Как соизволил ты взойти сюда,[1113] Где обитают счастье и величье?» 76 Глаза к ручью склонил я, но когда Себя увидел, то, не молвив слова, К траве отвел их, не стерпев стыда. 79 Так мать грозна для сына молодого, Как мне она казалась в гневе том: Горька любовь, когда она сурова. 82 Она умолкла; ангелы кругом Запели: «In te, Domine, speravi»,[1114] На «pedes meos» завершив псалом. 85 Как леденеет снег в живой дубраве, Когда, славонским ветром остужен, Хребет Италии сжат в мерзлом сплаве, 88 И как он сам собою поглощен, Едва дохнет земля, где гибнут тени,[1115] И кажется – то воск огнем спален, – 91 Таков был я, без слез и сокрушений, До песни тех, которые поют Вослед созвучьям вековечных сеней;[1116] 94 Но чуть я понял, что они зовут Простить меня, усердней, чем словами: «О госпожа, зачем так строг твой суд!», – 97 Лед, сердце мне сжимавший как тисками, Стал влагой и дыханьем и, томясь, Покинул грудь глазами и устами. 100 Она, все той же стороны держась На колеснице, вняв моленья эти, Так, речь начав, на них отозвалась: 103 «Вы бодрствуете в вековечном свете; Ни ночь, ни сон не затмевают вам Неутомимой поступи столетий; 106 И мой ответ скорей тому, кто там Сейчас стоит и слезы льет безгласно, И скорбь да соразмерится делам. 109 Не только силой горних кругов, властно Велящих семени дать должный плод, Чему расположенье звезд причастно, 112 Но милостью божественных щедрот, Чья дождевая туча так подъята, Что до нее наш взор не досягнет, 115 Он в новой жизни[1117] был таков когдато, Что мог свои дары, с теченьем дней, Осуществить невиданно богато. 118 Но тем дичей земля и тем вредней, Когда в ней плевел сеять понемногу, Чем больше силы почвенной у ней. 121 Была пора, он находил подмогу В моем лице; я взором молодым Вела его на верную дорогу. 124 Но чуть я, между первым и вторым Из возрастов,[1118] от жизни отлетела, – Меня покинув, он ушел к другим.[1119] 127 Когда я к духу вознеслась от тела И силой возросла и красотой, Его душа к любимой охладела. 130 Он устремил шаги дурной стезей, К обманным благам, ложным изначала, Чьи обещанья – лишь посул пустой. 133 Напрасно я во снах к нему взывала И наяву,[1120] чтоб с ложного следа Вернуть его: он не скорбел нимало. 136 Так глубока была его беда, Что дать ему спасенье можно было Лишь зрелищем погибших навсегда. 139 И я ворота мертвых посетила, Прося, в тоске, чтобы ему помог Тот, чья рука его сюда взводила. 142 То было бы нарушить божий рок – Пройти сквозь Лету и вкусить губами Такую снедь, не заплатив оброк 145 Раскаянья, обильного слезами». ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Ты, ставший, у священного потока, – Так, речь ко мне направив острием, Хоть было уж и лезвие[1121] жестоко, 4 Она тотчас же начала потом, – Скажи, скажи, права ли я! Признаний Мои улики требуют во всем». 7 Я был так слаб от внутренних терзаний, Что голос мой, поднявшийся со дна, Угас, еще не выйдя из гортани. 10 Пождав: «Ты что же? – молвила она. – Ответь мне! Память о годах печали[1122] В тебе волной[1123] еще не сметена». 13 Страх и смущенье, горше, чем вначале, Исторгли из меня такое «да», Что лишь глаза его бы распознали. 16 Как самострел ломается, когда Натянут слишком, и полет пологий Его стрелы не причинит вреда, 19 Так я не вынес бремени тревоги, И ослабевший голос мой затих, В слезах и вздохах, посреди дороги. 22 Она сказала: «На путях моих, Руководимый помыслом о благе, Взыскуемом превыше всех других,[1124] 25 Скажи, какие цепи иль овраги Ты повстречал, что мужеством иссяк И к одоленью не нашел отваги? 28 Какие на челе у прочих благ Увидел чары и слова обета, Что им навстречу устремил свой шаг?» 31 Я горьким вздохом встретил слово это И, голос мой усильем подчиня, С трудом раздвинул губы для ответа. 34 Потом, в слезах: «Обманчиво маня, Мои шаги влекла тщета земная, Когда ваш облик скрылся от меня». 37 И мне она: «Таясь иль отрицая, Ты обмануть не мог бы Судию, Который судит, все деянья зная. 40 Но если кто признал вину свою Своим же ртом, то на суде точило Вращается навстречу лезвию.[1125] 43 И все же, чтоб тебе стыднее было, Заблудшему, и чтоб тебя опять, Как прежде, песнь сирен не обольстила, 46 Не сея слез, внимай мне, чтоб узнать, Куда мой образ, ставший горстью пыли, Твои шаги был должен направлять. 49 Природа и искусство не дарили Тебе вовек прекраснее услад, Чем облик мой, распавшийся в могиле. 52 Раз ты лишился высшей из отрад С моею смертью, что же в смертной доле Еще могло к себе привлечь твой взгляд? 55 Ты должен был при первом же уколе Того, что бренно, устремить полет Вослед за мной, не бренной, – как дотоле. 58 Не надо было брать на крылья гнет, Чтоб снова пострадать, – будь то девичка Иль прочий вздор, который миг живет. 61 Раз, два страдает молодая птичка; А оперившихся и зорких птиц От стрел и сети бережет привычка». 64 Как малыши, глаза потупив ниц, Стоят и слушают и, сознавая Свою вину, не подымают лиц, 67 Так я стоял. «Хоть ты скорбишь, внимая, Вскинь бороду, – она сказала мне. – Ты больше скорби вынесешь, взирая». 70 Крушится легче дуб на крутизне Под ветром, налетевшим с полуночи Или рожденным в Ярбиной стране,[1126] 73 Чем поднял я на зов чело и очи; И, бороду взамен лица назвав, Она отраву сделала жесточе. 76 Когда я каждый распрямил сустав, Глаз различил, что первенцы творенья[1127] Дождем цветов не окропляют трав; 79 И я увидел, полн еще смятенья, Что Беатриче взоры навела На Зверя, слившего два воплощенья.[1128] 82 Хоть за рекой и не открыв чела, – Она себя былую побеждала[1129] Мощнее, чем других, когда жила. 85 Крапива скорби так меня сжигала, Что, чем сильней я чтолибо любил, Тем ненавистней это мне предстало. 88 Такой укор мне сердце укусил, Что я упал; что делалось со мною, То знает та, кем я повержен был. 91 Обретши силы в сердце, над собою Я увидал сплетавшую венок[1130] И услыхал: «Держись, держись, рукою!» 94 Меня, по горло погрузи в поток, Она влекла и легкими стопами Поверх воды скользила, как челнок. 97 Когда блаженный берег был над нами, «Asperges me»,[1131] – так нежно раздалось, Что мне не вспомнить, не сказать словами. 100 Меж тем она, взметнув ладони врозь, Склонилась надо мной и погрузила Мне голову, так что глотнуть пришлось.[1132] 103 Потом, омытым влагой, поместила Меж четверых красавиц[1133] в хоровод, И каждая меня рукой укрыла. 106 «Мы нимфы – здесь, мы – звезды в тьме высот;[1134] Лик Беатриче не был миру явлен, Когда служить ей мы пришли вперед.[1135] 109 Ты будешь нами перед ней поставлен; Но вникнешь в свет ее отрадных глаз Среди тех трех, чей взор острей направлен».[1136] 112 Так мне они пропели; и тотчас Мы перед грудью у Грифона стали, Имея Беатриче против нас. 115 «Не береги очей, – они сказали. – Вот изумруды, те, что с давних пор Оружием любви тебя сражали». 118 Сто сот желаний, жарче, чем костер, Вонзили взгляд мой в очи Беатриче, Все на Грифона устремлявшей взор. 121 Как солнце в зеркале, в таком величье Двусущный Зверь в их глубине сиял, То вдруг в одном, то вдруг в другом обличье.[1137] 124 Суди, читатель, как мой ум блуждал, Когда предмет стоял неизмененный, А в отраженье облик изменял. 127 Пока, ликующий и изумленный, Мой дух не мог насытиться едой, Которой алчет голод утоленный, – 130 Отмеченные высшей красотой, Три остальные, распевая хором, Ко мне свой пляс приблизили святой. 133 «Взгляни, о Беатриче, дивным взором На верного, – звучала песня та, – Пришедшего по кручам и просторам! 136 Даруй нам милость и твои уста Разоблачи, чтобы твоя вторая Ему была открыта красота!»[1138] 139 О света вечного краса живая, Кто так исчах и побледнел без сна В тени Парнаса, струй его вкушая, 142 Чтоб мысль его и речь была властна Изобразить, какою ты явилась, Гармонией небес осенена, 145 Когда в свободном воздухе открылась? ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 Мои глаза так алчно утоляли Десятилетней жажды[1139] жгучий зной, Что все другие чувства мертвы стали; 4 Взор здесь и там был огражден стеной Невнятия, влекомый неуклонно В былую сеть улыбкой неземной; 7 Но влево отклонился принужденно, Когда из уст богинь,[1140] стоявших там, Раздалось слово: «Слишком напряженно!» 10 Упадок зренья, свойственный глазам, В которых солнце свеже отразилось, Меня на время приобщил к слепцам; 13 Когда же с малым зренье вновь сроднилось (Я молвлю «с малым», мысля о большом, С которым ощущенье разлучилось), 16 Я видел – вправо повернув плечом, Святое войско шло стезей возвратной,[1141] С седмицей свеч и с солнцем пред челом. 19 Как, оградив себя щитами, ратный Заходит строй, за стягом идя вспять, Пока порядок не создаст обратный, – 22 Так стран небесных головная рать Вся перед нами прежде растянулась, Чем колесница стала загибать. 25 Из женщин каждая к оси вернулась, И благодатный груз повлек Грифон, Но ни перо на нем не шелохнулось. 28 Та, кем я был сквозь воду проведен, И я, и Стаций шли с руки, где круче Колесный след в загибе закруглен. 31 Так, через лес, пустынный и дремучий С тех пор, как змею женщина вняла, Мы шли под голос ангельских созвучий. 34 Насколько трижды пролетит стрела, Настолько удалясь, мы шаг прервали, И Беатриче на землю сошла. 37 Тогда «Адам!» все тихо пророптали И обступили древо, чьих ветвей Ни листья, ни цветы не украшали.[1142] 40 Его намет, чем выше, тем мощней И вправо расширявшийся, и влево, Дивил бы индов высотой своей. 43 «Хвала тебе, Грифон, за то, что древа Не ранишь клювом;[1143] вкус отраден в нем, Но горькие терзанья терпит чрево», – 46 Вскричали прочие, обстав кругом Могучий ствол; и Зверь двоерожденный: «Так семя всякой правды соблюдем». 49 И, к дышлу колесницы обращенный, Он к сирой ветви сам его привлек, Связав их вязью, из нее сплетенной.[1144] 52 Как наши поросли, когда поток Большого света смешан с тем, который Вслед за ельцом небесным ждет свой срок,[1145] 55 Пестро рядятся в свежие уборы, Пока еще не под другой звездой Коней для Солнца запрягают Оры, – 58 Так в цвет, светлей фиалки полевой И гуще розы, облеклось растенье, Где прежде каждый сук был неживой. 61 Я не постиг нездешнее хваленье, Которое весь сонм их возгласил, И не дослушал до конца их пенье. 64 Умей я начертать, как усыпил Сказ о Сиринге очи стражу злому,[1146] Который бденье дорого купил, 67 Я, подражая образцу такому, Живописал бы, как ввергался в сон; Но пусть искуснейший опишет дрему. 70 А я скажу, как я был пробужден И полог сна раздрали блеск мгновенный И возглас: «Встань же! Чем ты усыплен?»[1147] 73 Как, цвет увидев яблони священной, Чьим брачным пиром небеса полны И чьи плоды бесплотным вожделенны, 76 Петр, Иоанн и Яков, сражены Бесчувствием, очнулись от глагола, Который разрушал и глубже сны, 79 И видели, что лишена их школа Уже и Моисея, и Ильи, И на учителе другая стола,[1148] – 82 Так я очнулся, в смутном забытьи Увидев над собой при этом кличе Ту, что вдоль струй вела шаги мои. 85 В смятенье, я сказал: «Где Беатриче?» И та: «Она воссела у корней Листвы, обретшей новое величье. 88 Взгляни на круг приблизившихся к ней; Другие ввысь восходят[1149] за Грифоном, И песня их и глубже, и звучней». 91 Звенела ль эта речь дальнейшим звоном, Не знаю, ибо мне была видна Та, что мой слух заставила заслоном. 94 Она сидела на земле, одна, Как если б воз, который Зверь двучастный Связал с растеньем, стерегла она. 97 Окрест нее смыкали круг прекрасный Семь нимф,[1150] держа огней священный строй, Над коим Австр и Аквилон[1151] не властны. 100 «Ты здесь на краткий срок в сени лесной, Дабы затем навек, средь граждан Рима, Где римлянин – Христос, пребыть со мной. 103 Для пользы мира, где добро гонимо, Смотри на колесницу и потом Все опиши, что взору было зримо».[1152] 106 Так Беатриче; я же, весь во всем К стопам ее велений преклоненный, Воззрел послушно взором и умом. 109 Не падает столь быстро устремленный Огонь из тучи плотной, чьи пласты Скопились в сфере самой отдаленной, 112 Как птица Дия пала с высоты Вдоль дерева, кору его терзая, А не одну лишь зелень и цветы, 115 И, в колесницу мощно ударяя, Ее качнула; так, с боков хлеща, Раскачивает судно зыбь морская.[1153] 118 Потом я видел, как, вскочить ища, Кралась лиса к повозке величавой, Без доброй снеди до костей тоща. 121 Но, услыхав, какой постыдной славой Ее моя корила госпожа, Она умчала остов худощавый.[1154] 124 Потом, я видел, прежний путь держа, Орел спустился к колеснице снова И оперил ее, над ней кружа.[1155] 127 Как бы из сердца, горестью больного, С небес нисшедший голос произнес: «О челн мой, полный бремени дурного!» 130 Потом земля разверзлась меж колес, И видел я, как вышел из провала Дракон, хвостом пронзая снизу воз; 133 Он, как оса, вбирающая жало, Согнул зловредный хвост и за собой Увлек часть днища, утоленный мало. 136 Остаток, словно тучный луг – травой, Оделся перьями, во имя цели, Быть может, даже здравой и благой, 139 Подаренными, и они одели И дышло, и колеса по бокам, Так, что уста вздохнуть бы не успели.[1156] 142 Преображенный так, священный храм Явил семь глав над опереньем птичьим: Вдоль дышла – три, четыре – по углам. 145 Три первые уподоблялись бычьим, У прочих был единый рог в челе; В мир не являлся зверь, странней обличьем.[1157] 148 Уверенно, как башня на скале, На нем блудница наглая сидела, Кругом глазами рыща по земле; 151 С ней рядом стал гигант, чтобы не смела Ничья рука похитить этот клад; И оба целовались то и дело.[1158] 154 Едва она живой и жадный взгляд Ко мне метнула, друг ее сердитый Ее стегнул от головы до пят. 157 Потом, исполнен злобы ядовитой, Он отвязал чудовище и в лес Его повлек, где, как щитом укрытый, 160 С блудницей зверь невиданный исчез.[1159] ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 «Deus, venerunt gentes»,[1160] – то четыре, То три жены, та череда и та, Сквозь слезы стали петь стихи Псалтири. 4 И Беатриче, скорбью повита, Внимала им, подобная в печали, Быть может, лишь Марии у креста. 7 Когда же те простор для речи дали, Сказала, вспыхнув, как огонь во тьме, И встав, и так слова ее звучали: 10 «Modicum, et non videbitis me; Et iterum, любимые сестрицы, Modicum, et vos videbitis me».[1161] 13 И, двинувшись в предшествии седмицы,[1162] Мне, женщине и мудрецу[1163] – за ней Идти велела манием десницы. 16 И ранее, чем на стезе своей Она десятый шаг свой опустила, Мне хлынул в очи свет ее очей. 19 «Иди быстрей, – она проговорила, Спокойное обличие храня, – Чтобы тебе удобней слушать было». 22 Я подошел, по ней мой шаг равня; Она сказала: «Брат мой, почему бы Тебе сейчас не расспросить меня?» 25 Как те, кому мешает страх сугубый Со старшими свободно речь вести, И голос их едва идет сквозь зубы, 28 Так, полный звук не в силах обрести: «О госпожа, – ответил я, смущенный, – То, что мне нужно, легче вам найти». 31 Она на это: «Пусть твой дух стесненный Боязнь и стыд освободят от пут, Так, чтобы ты не говорил, как сонный. 34 Знай, что порушенный змеей сосуд[1164] Был и не стал;[1165] но от судьи вселенной Вино и хлеб злодея не спасут.[1166] 37 Еще придет преемник предреченный Орла, чьи перья, в колесницу пав, Ее уродом сделали и пленной. 40 Я говорю, провиденьем познав, Что вот уже и звезды у порога, Не знающие никаких застав, 43 Когда Пятьсот Пятнадцать,[1167] вестник бога, Воровку и гиганта истребит За то, что оба согрешали много. 46 И если эта речь моя гласит, Как Сфинга и Фемида, темным складом, И смысл ее от разума сокрыт, – 49 Событья уподобятся Наядам И трудную загадку разрешат, Но будет мир над нивой и над стадом.[1168] 52 Следи; и точно, как они звучат, Мои слова запомни для наказа Живым, чья жизнь – лишь путь до смертных врат 55 И при писанье своего рассказа Не скрой, каким растенье ты нашел, Ограбленное здесь уже два раза.[1169] 58 Кто грабит ветви иль терзает ствол, Повинен в богохульственной крамоле: Бог для себя святыню их возвел. 61 Грызнув его, пять тысяч лет и доле Ждала в мученьях первая душа,[1170] Чтоб грех избыл другой, по доброй воле. 64 Спит разум твой, размыслить не спеша, Что неспроста оно взнеслось так круто, Таким наметом стебель заверша. 67 Не будь твое сознание замкнуто, Как в струи Эльсы,[1171] в помыслы сует, Не будь их прелесть – как Пирам для тута,[1172] 70 Ты, по наличью этих лишь примет, Постиг бы нравственно, сколь правосудно Господь на древо наложил запрет. 73 Но так как ты, – мне угадать нетрудно, – Окаменел и потускнел умом И свет моих речей приемлешь скудно, 76 Хочу, чтоб ты в себе их нес потом, Подобно хоть не книге, а картине, Как жезл приносят с пальмовым листом».[1173] 79 И я: «Как оттиск в воске или глине, Который принял неизменный вид, Мой разум вашу речь хранит отныне. 82 Но для чего в такой дали парит Ваш долгожданный голос, и чем боле К нему я рвусь, тем дальше он звучит?» 85 «Чтоб ты постиг, – сказала, – что за школе[1174] Ты следовал, и видел, можно ль ей Познать сокрытое в моем глаголе; 88 И видел, что до божеских путей Вам так далеко, как земному краю До неба, мчащегося всех быстрей».[1175] 91 На что я молвил: «Я не вспоминаю, Чтоб я когдалибо чуждался вас, И в этом я себя не упрекаю». 94 Она же: «Если ты на этот раз Забыл, – и улыбнулась еле зримо, – То вспомни, как ты Лету пил сейчас; 97 Как судят об огне по клубам дыма, Само твое забвенье – приговор Виновной воле, устремленной мимо.[1176] 100 Но говорить с тобою с этих пор Я буду обнаженными словами, Чтобы их видеть мог твой грубый взор». 103 Все ярче, замедленными шагами, Вступало солнце в полуденный круг, Который создан нашими глазами, 106 Когда в пути остановились вдруг, – Как проводник, который полн сомнений, Увидев незнакомое вокруг, – 109 Семь жен у выхода из бледной тени, Какую в Альпах стелет вдоль ручья Вязь черных веток и зеленой сени. 112 Там растекались, – мог бы думать я, – Тигр и Евфрат из одного истока, Лениво разлучаясь, как друзья.[1177] 115 «О светоч смертных, блещущий высоко, Что это за раздвоенный поток, Сам от себя стремящийся далеко?» 118 На что сказали так[1178]: «Тебе урок Подаст Мательда».[1179] И, путем ответа Как бы желая отвести упрек, 121 Прекрасная сказала: «И про это,[1180] И про иное с ним я речь вела, И не могла ее похитить Лета». 124 И Беатриче: «Больших мыслей мгла, Ложащихся на память пеленою, Ему, быть может, ум заволокла. 127 Но видишь льющуюся там Эвною: Сведи его и сделай, как всегда, Угаснувшую силу[1181] вновь живою». 130 Как избранные души без труда Желанное другим желают сами, Лишь только есть малейшая нужда, 133 Так, до меня дотронувшись перстами, Она пошла и на учтивый лад Сказала Стацию: «Ты следуй с нами». 136 Не будь, читатель, у меня преград Писать еще, я бы воспел хоть мало Питье, чью сладость вечно пить бы рад; 139 Но так как счет положен изначала[1182] Страницам этой кантики второй, Узда искусства здесь меня сдержала. 142 Я шел назад,[1183] священною волной Воссоздан так, как жизненная сила Живит растенья зеленью живой, 145 Чист и достоин посетить светила.[1184]
РАЙ
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 1 Лучи того, кто движет мирозданье, Все проницают славой и струят Где – большее, где – меньшее сиянье. 4 Я в тверди был,[1185] где свет их восприят Всего полней; но вел бы речь напрасно О виденном вернувшийся назад; 7 Затем что, близясь к чаемому страстно, Наш ум к такой нисходит глубине, Что память вслед за ним идти не властна. 10 Однако то, что о святой стране Я мог скопить, в душе оберегая, Предметом песни воспослужит мне. 13 О Аполлон, последний труд свершая, Да буду я твоих исполнен сил, Как ты велишь, любимый лавр[1186] вверяя. 16 Мне из зубцов Парнаса нужен был Пока один;[1187] но есть обоим дело, Раз я к концу ристанья приступил. 19 Войди мне в грудь и вей, чтоб песнь звенела, Как в день, когда ты Марсия[1188] извлек И выбросил из оболочки тела. 22 О вышний дух, когда б ты мне помог Так, чтобы тень державы осиянной Явить, в мозгу я впечатленной мог, 25 Я стал бы в сень листвы, тебе желанной, Чтоб на меня возложен был венец, Моим предметом и тобой мне данный. 28 Ее настолько редко рвут, отец, Чтоб кесаря почтить или поэта, К стыду и по вине людских сердец, 31 Что богу Дельф[1189] должно быть в радость это, Когда к пенейским листьям[1190] взор воздет И чьето сердце жаждой их согрето. 34 За искрой пламя ширится вослед: За мной, быть может, лучшими устами Взнесут мольбу, чтоб с Кирры был ответ. 37 Встает для смертных разными вратами Лампада мира; но из тех, где слит Бег четырех кругов с тремя крестами, 40 По лучшему пути она спешит И с лучшею звездой, и чище сила Мирскому воску оттиск свой дарит.[1191] 43 Почти из этих врат там утро всплыло, Здесь вечер пал, и в полушарьи том Все стало белым, здесь все черным было, 46 Когда, налево обратясь лицом, Вонзилась в солнце Беатриче взором;[1192] Так не почиет орлий взгляд на нем. 49 Как луч выходит из луча, в котором Берет начало, чтоб отпрянуть ввысь, – Скиталец в думах о возврате скором,[1193] – 52 Так из ее движений родились, Глазами в дух войдя, мои; к светилу Не полюдски глаза мои взнеслись. 55 Там можно многое, что не под силу Нам здесь, затем что создан тот приют Для человека по его мерилу.[1194] 58 Я выдержал недолго, но и тут Успел заметить, что оно искрилось, Как взятый из огня железный прут. 61 И вдруг сиянье дня усугубилось, Как если бы второе солнце нам Велением Могущего явилось. 64 А Беатриче к вечным высотам Стремила взор; мой взгляд низведши вскоре, Я устремил глаза к ее глазам. 67 Я стал таким, в ее теряясь взоре, Как Главк[1195], когда вкушенная трава Его к бессмертным приобщила в море. 70 Пречеловеченье[1196] вместить в слова Нельзя; пример мой[1197] близок по приметам, Но самый опыт – милость божества. 73 Был ли я только тем, что в теле этом Всего новей,[1198] Любовь, господь высот, То знаешь ты, чьим я вознесся светом. 76 Когда круги, которых вечный ход Стремишь, желанный, ты,[1199] мой дух призвали Гармонией,[1200] чей строй тобой живет, 79 Я видел – солнцем загорелись дали[1201] Так мощно, что ни ливень, ни поток Таких озер вовек не расстилали. 82 Звук был так нов, и свет был так широк, Что я горел постигнуть их начало; Столь острый пыл вовек меня не жег. 85 Та, что во мне, как я в себе, читала, – Чтоб мне в моем смятении – помочь, Скорей, чем я спросил, уста разъяла 88 И начала: «Ты должен превозмочь Неверный домысл; то, что непонятно, Ты понял бы, его отбросив прочь. 91 Не на земле ты, как считал превратно, Но молния, покинув свой предел, Не мчится так, как ты к нему обратно».[1202] 94 Покров сомненья с дум моих слетел, Снят сквозь улыбку речью небольшою, Но тут другой на них отяготел, 97 И я сказал: «Я вновь пришел к покою От удивленья; но дивлюсь опять, Как я всхожу столь легкою средою». 100 Она, умея вздохом сострадать, Ко мне склонила взор неизреченный, Как на дитя в бреду – взирает мать, 103 И начала: «Все в мире неизменный Связует строй; своим обличьем он Подобье бога придает вселенной. 106 Для высших тварей в нем отображен След вечной Силы, крайней той вершины, Которой служит сказанный закон. 109 И этот строй объемлет, всеединый, Все естества, что по своим судьбам! – Вблизи или вдали от их причины. 112 Они плывут к различным берегам Великим морем бытия, стремимы Своим позывом, что ведет их сам. 115 Он пламя мчит к луне, неудержимый; Он в смертном сердце[1203] возбуждает кровь; Он землю вяжет в ком неразделимый. 118 Лук этот[1204] вечно мечет, вновь и вновь, Не только неразумные творенья, Но те, в ком есть и разум и любовь. 121 Свет устроительного провиденья Покоит твердь, объемлющую ту, Что всех поспешней быстротой вращенья. 124 Туда, в завещанную высоту, Нас эта сила тетивы помчала, Лишь радостную ведая мету. 127 И все ж, как образ отвечает мало Подчас тому, что мастер ждал найти, Затем что вещество на отклик вяло, – 130 Так точно тварь от этого пути Порой отходит, властью обладая, Хоть дан толчок, стремленье отвести; 133 И как огонь, из тучи упадая, Стремится вниз,[1205] так может первый взлет Пригнуть обратно суета земная. 136 Дивись не больше, – это взяв в расчет, – Тому, что всходишь, чем стремнине водной, Когда она с вершины вниз течет. 139 То было б диво, если бы, свободный От всех помех, ты оставался там, Как сникший к почве пламень благородный». 142 И вновь лицо подъяла к небесам. ПЕСНЬ ВТОРАЯ 1 О вы, которые в челне зыбучем, Желая слушать, плыли по волнам Вослед за кораблем моим певучим, 4 Поворотите к вашим берегам! Не доверяйтесь водному простору! Как бы, отстав, не потеряться вам! 7 Здесь не бывал никто по эту пору: Минерва веет, правит Аполлон, Медведиц – Музы указуют взору, 10 А вы, немногие, что испокон Мысль к ангельскому хлебу обращали, Хоть кто им здесь живет – не утолен, 13 Вам можно смело сквозь морские дали Свой струг вести там, где мой след вскипел, Доколе воды ровными не стали. 16 Тех, кто в Колхиду путь преодолел, Не столь большое ждало удивленье, Когда Ясон предстал как земледел.[1206] 19 Врожденное и вечное томленье По божьем царстве мчало наш полет, Почти столь быстрый, как небес вращенье. 22 Взор Беатриче не сходил с высот, Мой взор – с нее. Скорей, чем с самострела Вонзится, мчится и сорвется дрот, 25 Я долетел до чудного предела, Привлекшего глаза и разум мой; И та, что прямо в мысль мою глядела, – 28 Сияя радостью и красотой: «Прославь душой того, – проговорила, – Кто дал нам слиться с первою звездой».[1207] 31 Казалось мне – нас облаком накрыло, Прозрачным, гладким, крепким и густым, Как адамант, что солнце поразило. 34 И этот жемчуг, вечно нерушим, Нас внутрь воспринял, как вода – луч света, Не поступаясь веществом своим. 37 Коль я был телом, и тогда, – хоть это Постичь нельзя, – объем вошел в объем, Что должно быть, раз тело в тело вдето, 40 То жажда в нас должна вспылать огнем Увидеть Сущность, где непостижимо Природа наша слита с божеством. 43 Там то, во что мы верим, станет зримо, Самопонятно без иных мерил; Так – первоистина неоспорима. 46 Я молвил: «Госпожа, всей мерой сил Благодарю того, кто благодатно Меня от смертных стран отъединил. 49 Но что, скажите, означают пятна На этом теле, вид которых нам О Каине[1208] дает твердить превратно?» 52 Тогда она с улыбкой: «Если там Сужденья смертных ложны, – мне сказала, – Где не прибегнуть к чувственным ключам, 55 Взирай на это, отстраняя жало Стрел удивленья, раз и чувствам вслед, Как видишь, разум воспаряет вяло. 58 А сам ты мыслишь как?» И я в ответ: «Я вижу этой разности причину В том, скважен ли, иль плотен сам предмет».[1209] 61 Она же мне: «Как мысль твоя в пучину Неистинного канет, сам взгляни, Когда мой довод я навстречу двину. 64 Восьмая твердь[1210] являет вам огни, И многолики, при числе несчетном, Количеством и качеством они.[1211] 67 Будь здесь причина в скважном или плотном, То свойство[1212] было бы у всех одно, Делясь неравно в сонме быстролетном. 70 Различье свойств различьем рождено Существенных начал,[1213] а по ответу, Что ты даешь, начало всех равно. 73 И сверх того, будь сумрачному цвету Причиной скважность, то или насквозь Неплотное пронзало бы планету, 76 Или, как в теле рядом ужилось Худое с толстым, так и тут примерно Листы бы ей перемежать пришлось.[1214] 79 О первом[1215] бы гласили достоверно Затменья солнца: свет сквозил бы здесь, Как через все, что скважно и пещерно. 82 Так не бывает. Вслед за этим взвесь Со мной второе;[1216] и его сметая, Я домысл твой опровергаю весь. 85 Коль скоро эта скважность – не сквозная, То есть предел, откуда вглубь лежит Ее противность, дальше не пуская. 88 Отсюда чуждый луч назад бежит, Как цвет, отосланный обратно в око Стеклом, когда за ним свинец укрыт. 91 Ты скажешь мне, что луч, войдя глубоко, Здесь кажется темнее, чем вокруг, Затем что отразился издалека. 94 Чтоб этот довод рухнул так же вдруг, Тебе бы опыт сделать не мешало; Ведь он для вас – источник всех наук. 97 Возьми три зеркала, и два сначала Равно отставь, а третье вдаль попять, Чтобы твой взгляд оно меж них встречало. 100 К ним обратясь, свет за спиной приладь, Чтоб он все три зажег, как строй светилен, И ото всех шел на тебя опять. 103 Хоть по количеству не столь обилен Далекий блеск, он яркостью своей Другим, как ты увидишь, равносилен. 106 Теперь, как под ударами лучей Основа снега зрится обнаженной От холода и цвета прежних дней, 109 Таков и ты, и мысли обновленной Я свет хочу пролить такой живой, Что он в глазах дрожит, воспламененный. 112 Под небом, где божественный покой, Кружится тело некое, чья сила Все то, что в нем, наполнила собой.[1217] 115 Твердь вслед за ним,[1218] где столькие светила, Ее распределяет естествам,[1219] Которые, не слив с собой, вместила. 118 Так поступает к остальным кругам Премного свойств, которые они же Приспособляют к целям и корням.[1220] 121 Строй членов мира, как, всмотревшись ближе, Увидел ты, уступами идет И, сверху взяв, потом вручает ниже. 124 Следи за тем, как здесь мой шаг ведет К познанью истин, для тебя бесценных, Чтоб знать потом, где пролегает брод. 127 Исходят бег и мощь кругов священных, Как ковка от умеющих ковать, От движителей некоих блаженных.[1221] 130 И небо, где светил не сосчитать, Глубокой мудрости, его кружащей, Есть повторенный образ и печать. 133 И как душа, под перстью преходящей, В разнообразных членах растворясь, Их направляет к цели надлежащей, 136 Так этот разум,[1222] дробно расточась По многим звездам, благость изливает, Вокруг единства своего кружась. 139 И каждая из разных сил[1223] вступает В связь с драгоценным телом,[1224] где она, Как в людях жизнь, поразному мерцает. 142 Ликующей природой рождена, Влитая сила светится сквозь тело, Как радость сквозь зрачок излучена. 145 В ней – ключ к тому, чтоб разное блестело Поразному, не в плотности отнюдь: В ней – то начало, что творит всецело, 148 По мере благости, и блеск и муть». ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ 1 То солнце, что зажгло мне грудь любовью, Открыло мне прекрасной правды лик, Прибегнув к доводам и прекословью; 4 И, торопясь признать, что я постиг И убежден, я, сколько подобало, Лицо для речи поднял в тот же миг. 7 Но предо мной видение предстало И к созерцанью так меня влекло, Что речь забылась и не прозвучала. 10 Как чистое, прозрачное стекло Иль ясных вод спокойное теченье, Где дно от глаз неглубоко ушло, 13 Нам возвращают наше отраженье Столь бледным, что жемчужину скорей На белизне чела отыщет зренье, – 16 Такой увидел я чреду теней, Беседы ждавших; тут я обманулся Иначе, чем влюбившийся в ручей.[1225] 19 Как только взором я до них коснулся, Я счел их отраженьем лиц людских И, чтоб взглянуть, кто это, обернулся; 22 Вперив глаза в ничто, я вверил их Вновь свету милой спутницы; с улыбкой, Она пылала глубью глаз святых. 25 «Что я смеюсь над детскою ошибкой, – Она сказала, – странного в том нет: Не доверяясь правде мыслью зыбкой, 28 Ты вновь пустому обращен вослед. Твой взор живые сущности встречает: Здесь место тех, кто преступил обет. 31 Спроси их, слушай, верь; их утоляет Свет вечной правды, и ни шагу он Им от себя ступить не позволяет». 34 И я, к одной из теней обращен, Чья жажда говорить была мне зрима, Сказал, как тот, кто хочет и смущен: 37 «Блаженная душа, ты, что, хранима Всевечным светом, знаешь благодать, Чья сладость лишь вкусившим постижима, 40 Я был бы счастлив от тебя узнать, Как ты зовешься и о вашей доле». Та, с ясным взором, рада отвечать: 43 «У нас любовь ничьей правдивой воле Дверь не замкнет, уподобляясь той, Что ждет подобных при своем престоле.[1226] 46 Была я в мире девственной сестрой; И, в память заглянув проникновенно, Под большею моею красотой 49 Пиккарду[1227] ты узнаешь, несомненно. Среди блаженных этих вкруг меня Я в самой медленной из сфер блаженна. 52 Желанья наши, нас воспламеня Служеньем воле духа пресвятого, Ликуют здесь, его завет храня. 55 И наш удел, столь низменней иного, Нам дан за то, что нами был забыт Земной обет и не блюлся сурово». 58 И я на то: «Ваш небывалый вид Блистает так божественно и чудно, Что он с начальным обликом не слит. 61 Здесь память мне могла служить лишь скудно; Но помощь мне твои слова несут, И мне узнать тебя теперь нетрудно. 64 Но расскажи: вы все, кто счастлив тут, Взыскуете ли высшего предела, Где больший кругозор и дружба ждут?» 67 С другими улыбаясь, тень глядела И, радостно откликнувшись потом, Как бы любовью первой пламенела:[1228] 70 «Брат, нашу волю утолил во всем Закон любви, лишь то желать велящей, Что есть у нас, не мысля об ином. 73 Когда б мы славы восхотели вящей, Пришлось бы нашу волю разлучить С верховной волей, нас внизу держащей, – 76 Чего не может в этих сферах быть, Раз пребывать в любви для нас necesse[1229] И если смысл ее установить. 79 Ведь темто и блаженно наше esse,[1230] Что божья воля руководит им И наша с нею не в противовесе. 82 И так как в этом царстве мы стоим По ступеням, то счастливы народы И царь, чью волю вольно мы вершим; 85 Она – наш мир; она – морские воды, Куда течет все, что творит она, И все, что создано трудом природы». 88 Тут я постиг, что всякая страна На небе – Рай, хоть в разной мере, ибо Неравно милостью орошена. 91 Но как, из блюд вкусив какоголибо, Мы следующих просим иногда, За съеденное говоря спасибо, 94 Так поступил и молвил я тогда, Дабы услышать, на какой же ткани Ее челнок не довершил труда. 97 «Жену высокой жизни и деяний,[1231] – Она в ответ, – покоит вышний град. Те, кто ее не бросил одеяний, 100 До самой смерти бодрствуют и спят Близ жениха, который всем обетам, Ему с любовью принесенным, рад. 103 Я, вслед за ней, наскучив рано светом, В ее одежды тело облекла, Быть верной обещав ее заветам. 106 Но люди, в жажде не добра, а зла, Меня лишили тихой сени веры, И знает бог, чем жизнь моя была. 109 А этот блеск, как бы превыше меры, Что вправо от меня тебе предстал, Пылая всем сияньем нашей сферы, 112 Внимая мне, и о себе внимал: С ее чела, как и со мной то было, Сорвали тень священных покрывал. 115 Когда ее вернула миру сила, В обиду ей и оскорбив алтарь, – Она покровов сердца не сложила. 118 То свет Костанцы, столь великой встарь, Кем от второго вихря, к свевской славе, Рожден был третий вихрь, последний царь».[1232] 121 Так молвила, потом запела «Ave, Maria»,[1233] исчезая под напев, Как тонет груз и словно тает въяве. 124 Мой взор, вослед ей пристально смотрев, Насколько можно было, с ней простился, И, к цели больших дум его воздев, 127 Я к Беатриче снова обратился; Но мне она в глаза сверкнула так, Что взгляд сперва, не выдержав, смутился; 130 И новый мой вопрос замедлил шаг. ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 Меж двух равно манящих явств, свободный В их выборе к зубам бы не поднес Ни одного и умер бы голодный; 4 Так агнец медлил бы меж двух угроз Прожорливых волков, равно страшимый; Так медлил бы меж двух оленей пес. 7 И то, что я молчал, равно томимый Сомненьями, счесть ни добром, ни злом Нельзя, раз это путь необходимый. 10 Так я молчал; но на лице моем Желанье, как и сам вопрос, сквозило Жарчей, чем сказанное языком. 13 Но Беатриче, вроде Даниила, Кем был смирен Навуходоносор, Когда его свирепость ослепила,[1234] 16 Сказала: «Вижу, что возник раздор В твоих желаньях, и, теснясь в неволе, Раздумья тщетно рвутся на простор. 19 Ты мыслишь: «Раз я стоек в доброй воле, То как насилье нанесет урон Моей заслуге хоть в малейшей доле?» 22 Еще и тем сомненьем ты смущен, Не взносятся ли души в самом деле Обратно к звездам, как учил Платон.[1235] 25 Поравному твое стесняют velle[1236] Вопросы эти; обращаясь к ним, Сперва коснусь того, чей яд тяжеле. 28 Всех глубже вбожествленный[1237] серафим И Моисей и Самуил пророки Иль Иоанн, – он может быть любым,[1238] – 31 Мария – твердью все равновысоки Тем духам,[1239] что тебе являлись тут, И бытия их не иные сроки;[1240] 34 Все красят первый круг[1241] и там живут В неравной неге, ибо в разной мере Предвечных уст они дыханье пьют. 37 И здесь они предстали не как в сфере, Для них назначенной, а чтоб явить Разностепенность высшей на примере. 40 Так с вашей мыслью должно говорить, Лишь в ощутимом черплющей познанье, Чтоб разуму затем его вручить. 43 К природе вашей снисходя, Писанье О божией деснице говорит И о стопах, вводя иносказанье; 46 И Гавриила в человечий вид, И Михаила церковь облекает, Как и того, кем исцелен Товит.[1242] 49 То, что Тимей[1243] о душах утверждает, Несходно с тем, что здесь дано узнать, Затем что он как будто впрямь считает, 52 Что всякая душа взойдет опять К своей звезде, с которой связь порвала, Ниспосланная тело оживлять. 55 Но может быть – здесь мысль походит мало На то, что выразил словесный звук; Тогда над ней смеяться не пристало. 58 Так, возвращая светам этих дуг Честь и позор влияний, может статься, Он в долю правды направлял бы лук.[1244] 61 Поняв его превратно, заблуждаться Пошел почти весь мир, и так тогда Юпитер, Марс, Меркурий стали зваться.[1245] 64 В другом твоем сомнении[1246] вреда Гораздо меньше; с ним пребудешь здравым И не собьешься с моего следа. 67 Что наше правосудие неправым Казаться может взору смертных, в том Путь к вере, а не к ересям лукавым. 70 Но так как человеческим умом Глубины этой правды постижимы, Твое желанье утолю во всем. 73 Раз только там насилье, где теснимый Насильнику не помогал ничуть, То эти души им не извинимы; 76 Затем что волю силой не задуть; Она, как пламя, борется упорно, Хотя б его сто раз насильно гнуть. 79 А если в чемлибо она покорна, То вторит силе; так и эти вот, Хоть в божий дом могли уйти повторно. 82 Будь воля их тот целостный оплот, Когда Лаврентий[1247] не встает с решетки Или суровый Муций руку жжет,[1248] – 85 Освободясь, они тот путь короткий, Где их влекли, прошли бы сами вспять; Но те примеры – редкие находки. 88 Так, если точно речь мою понять, Исчез вопрос, который, возникая, Тебе и дальше мог бы докучать. 91 Но вот теснина предстает другая, И здесь тебе вовеки одному Не выбраться; падешь, изнемогая. 94 Как я внушала, твоему уму, Слова святого никогда не лживы: От Первой Правды не уйти ему. 97 Слова Пиккарды, стало быть, правдивы, Что дух Костанцы жаждал покрывал, Моим же как бы противоречивы. 100 Ты знаешь, брат, сколь часто мир видал, Что человек, пред чемнибудь робея, Свершает то, чего бы не желал; 103 Так Алкмеон[1249], ослушаться не смея Родителя, родную мать убил И превратился, зла страшась, в злодея. 106 Здесь, как ты сам, надеюсь, рассудил, Насилье слито с волей,[1250] и такого Не извинить, кто этим прегрешил. 109 По сути, воля не желает злого, Но с ним мирится, ибо ей страшней Стать жертвою чеголибо иного. 112 Пиккардa мыслит в повести своей О чистой воле, той, что вне упрека; Я – о другой;[1251] мы обе правы с ней». 115 Таков был плеск священного потока, Который от верховий правды шел; Он обе жажды утолил глубоко. 118 «Небесная, – тогда я речь повел, – Любимая Вселюбящего, светит, Живит теплом и влагой ваш глагол. 121 Таких глубин мой дух в себе не встретит, Чтоб дар за дар воздать решился он; Пусть тот, кто зрящ и властен, вам ответит. 124 Я вижу, что вовек не утолен Наш разум, если Правдой непреложной, Вне коей правды нет, не озарен. 127 В ней он покоится, как зверь берложный, Едва дойдя; и он всегда дойдет, – Иначе все стремления ничтожны. 130 От них у корня истины встает Росток сомненья; так природа властно С холма на холм ведет нас до высот. 133 Вот что дает мне смелость, манит страстно Вас, госпожа, почтительно спросить О том, что для меня еще неясно. 136 Я знать хочу, возможно ль возместить Разрыв обета новыми делами И груз их на весы к вам положить». 139 Она такими дивными глазами Огонь любви метнула на меня, Что веки у меня поникли сами, 142 И я себя утратил, взор склоня. ПЕСНЬ ПЯТАЯ 1 Когда мой облик пред тобою блещет И свет любви не поземному льет, Так, что твой взор, не выдержав, трепещет, 4 Не удивляйся; это лишь растет Могущественность зренья и, вскрывая, Во вскрытом благе движется вперед. 7 Уже я вижу ясно, как, сияя, В уме твоем зажегся вечный свет, Который любят, на него взирая. 10 И если вас влечет другой предмет, То он всего лишь – восприятий ложно Того же света отраженный след. 13 Ты хочешь знать, чем равноценным можно Обещанные заменить дела, Чтобы душа почила бестревожно». 16 Так Беатриче в эту песнь вошла И продолжала слова ход священный, Чтоб речь ее непрерванной текла: 19 «Превысший дар создателя вселенной, Его щедроте больше всех сродни И для него же самый драгоценный, – 22 Свобода воли, коей искони Разумные создания причастны, Без исключенья все и лишь они. 25 Отсюда ты получишь вывод ясный, Что значит дать обет, – конечно, там, Где бог согласен, если мы согласны. 28 Бог обязаться дозволяет нам, И этот клад,[1252] такой, как я сказала, Себя ему приносит в жертву сам. 31 Где ценность, что его бы заменяла? А в отданном ты больше не волен, И жертвовать чужое – не пристало. 34 Ты в основном отныне утвержден; Но так как церковь знает разрешенья,[1253] С чем как бы спорит сказанный закон, 37 Не покидай стола без замедленья: Кусок, который съел ты, был тугим И требует подмоги для сваренья. 40 Открой же разум свой словам моим И в нем замкни их; исчезает вскоре То, что, услышав, мы не затвердим. 43 Две стороны мы видим при разборе Подобных жертв: одну мы видим в том, Чем жертвуют; другую – в договоре. 46 Последний обязателен во всем, Пока не выполнен, как изъяснялось Уже и выше точным языком. 49 Вот почему евреям полагалось, – Ты помнишь, – жертвовать из своего, Хоть жертва иногда и заменялась. 52 Зато второе, то есть существо, Бывает и таким, что есть пределы, В которых можно изменить его. 55 Но бремя плеч своих и самый смелый Менять не смеет и обязан несть, Пока недвижны желтый ключ и белый.[1254] 58 Да и обмен нелепым надо счесть, Когда предмет, имевшийся доселе, Не входит в новый, как четыре в шесть.[1255] 61 А если ценность – всех других тяжеле И всякой чаши книзу тянет край, Ее ничем не возместить на деле. 64 Своим обетом, смертный, не играй! Будь стоек, но не обещайся слепо, Как первый дар принесший Иеффай[1256]; 67 Он не сказал: «Я поступил нелепо!», А согрешил, свершая. В тот же ряд Вождь греков стал, безумный столь свирепо, 70 Что вместе с Ифигенией скорбят Глупец и мудрый, все, кому случится Услышать про чудовищный обряд.[1257] 73 О христиане, полно торопиться, Лететь, как перья, всем ветрам вослед! Не думайте любой водой омыться! 76 У вас есть Ветхий, Новый есть завет, И пастырь церкви вас всегда наставит; Вот путь спасенья, и другого нет. 79 А если вами злая алчность правит,[1258] Так вы же люди, а не скот тупой, И вас меж вас еврей да не бесславит! 82 Не будьте, как ягненок молодой, Который, бросив мать, беды не чуя, По простоте играет сам с собой!» 85 Так Беатриче мне, как здесь пишу я; Потом туда, где мир всего живей,[1259] Вновь обратила взоры, вся взыскуя. 88 Ее безмолвье, чудный блеск очей Лишили слов мой жадный ум, где зрели Опять вопросы к госпоже моей. 91 И как стрела спешит коснуться цели Скорее, чем затихнет тетива, Так ко второму царству[1260] мы летели. 94 Такая радость в ней зажглась, едва Тот светоч[1261] нас объял, что озарилась Сама планета светом торжества. 97 И раз звезда, смеясь, преобразилась, То как же – я, чье естество[1262] всегда Легко переменяющимся мнилось? 100 Как из глубин прозрачного пруда К тому, что тонет, стая рыб стремится, Когда им в этом чудится еда, 103 Так видел я – несчетность блесков мчится Навстречу нам, и в каждом клич звучал: «Вот кем любовь для нас обогатится!» 106 И чуть один к нам ближе подступал, То виделось, как все в нем ликовало, По зареву, которым он сиял. 109 Суди, читатель: оборвись начало На этом, как бы тягостно тебе Дальнейшей повести недоставало; 112 И ты поймешь, как мне об их судьбе Хотелось внять правдивые глаголы, Едва мой взгляд воспринял их в себе. 115 «Благорожденный, ты, кому престолы Всевечной славы видеть предстоит, Пока не кончен труд войны[1263] тяжелый, – 118 Тот свет, который в небесах разлит, Пылает в нас; поэтому, желая Про нас узнать, ты будешь вволю сыт». 121 Так молвила одна мне тень благая, А Беатриче: «Смело говори И слушай с верой, как богам внимая!» 124 «Я вижу, как гнездишься ты внутри Своих лучей и как их льешь глазами, Ликующими пламенней зари. 127 Но кто ты, дух достойный, и пред нами Зачем предстал в той сфере, чье чело От смертных скрыто чуждыми лучами?»[1264] 130 Так я сказал сиявшему светло, Тому, кто речь держал мне; и сиянье Его еще лучистей облекло. 133 Как солнце, чье чрезмерное сверканье Его же застит, если жар пробил Смягчающих паров напластованье, 136 Так он, ликуя, от меня укрыл Священный лик среди его же света И, замкнут в нем, со мной заговорил, 139 Как будет в следующей песни спето. ПЕСНЬ ШЕСТАЯ 1 С пор как взмыл, послушный Константину, Орел противу звезд, которым вслед И Он встарь парил за тем, кто взял Лавину, 4 Господня птица двести с лишним лет На рубеже Европы пребывала, Близ гор, с которых облетела свет; 7 И тень священных крыл распростирала На мир, который был во власть ей дан, И там, из длани в длань, к моей ниспала.[1265] 10 Был кесарь я, теперь – Юстиниан[1266]; Я, Первою Любовью[1267] вдохновленный, В законах всякий устранил изъян. 13 Я верил, в труд еще не погруженный, Что естество в Христе одно, не два, Такою верой удовлетворенный. 16 Но Агапит[1268], всех пастырей глава, Мне свой урок преподал благодатный В той вере, что единственно права. 19 Я внял ему; теперь мне так понятны Его слова, как твоему уму В противоречье ложь и правда внятны. 22 Я стал ступать, как церковь; потому И бог меня отметил, мне внушая Высокий труд;[1269] я предался ему, 25 Оружье Велисарию[1270] вверяя, Которого господь в боях вознес, От ратных дел меня освобождая. 28 Таков ответ на первый твой вопрос; Но надо, чтоб, об этом повествуя, Еще немного слов я произнес, 31 Всю правоту[1271] тебе живописуя Тех, кто подвигся на священный стяг,[1272] Его присвоив или с ним враждуя.[1273] 34 Взгляни, каким величьем всякий шаг Его сиял; чтоб он владел державой, Паллант[1274] всех прежде кровию иссяк. 37 Ты знаешь, как он в Альбе[1275] величавой Три века ждал, чтоб на ее полях Три против трех вступили в бой кровавый;[1276] 40 И что он сделал при семи царях, От скорби жен сабинских до печали Лукреции, в соседях сея страх;[1277] 43 Что сделал он, когда его вздымали На Бренна и на Пирра[1278] и подряд Властителей и веча покоряли, – 46 За что косматый Квинций, и Торкват,[1279] И Деции, и Фабии[1280] доныне Прославлены, и я почтить их рад. 49 Он ниспроверг арабов в их гордыне, Вслед Ганнибалу миновавших склон, Откуда, По, ты держишь путь к равнине.[1281] 52 Он видел, как Помпей и Сципион[1282] Повиты юной славой[1283] и крушима Вершина, под которой ты рожден.[1284] 55 Пока то время близилось незримо, Когда свой облик твердь земле дала,[1285] Им Цезарь овладел, по воле Рима. 58 От Вара к Рейну[1286] про его дела Спроси волну Изары, Эры, Сенны[1287] И всех долин, что Рона приняла. 61 А что он сделал, выйдя из Равенны И минув Рубикон[1288], – то был полет, Ни словом, ни пером не изреченный. 64 Он двинул на Испанию поход; Затем к Дураццо; и в Фарсал вонзился, Исторгнув стон у жарких Нильских вод;[1289] 67 Антандр и Симоэнт, где встарь гнездился, Увидел вновь, и Гекторов курган,[1290] И вновь, на горе Птолемею,[1291] взвился. 70 На Юбу[1292] пал, как грозовой таран, И вновь пошел на запад ваш, где к брани Опять взывали трубы помпеян.[1293] 73 О том, чем был он в следующей длани,[1294] Брут лает с Кассием в Аду,[1295] скорбят Перузий с Мутиной, полны стенаний.[1296] 76 И до сих пор отчаяньем объят Дух Клеопатры, спасшейся напрасно, Чтоб смерть ей дал змеиный черный яд.[1297] 79 Он долетел туда, где море красно;[1298] Он подарил земле такой покой, Что Янов храм был заперт повсечасно.[1299] 82 Но все, что стяг, превозносимый мной, Свершил дотоле и свершил в грядущем Для подданной ему страны земной, – 85 Мрак и ничто, когда умом нелгущим И ясным оком взглянем на него При третьем кесаре,[1300] его несущем. 88 Живая Правда, в длани у того, Ему внушила славный долг – сурово Исполнить мщенье гнева своего. 91 Теперь дивись, мое услышав слово: Он с Титом вновь пошел и отомстил За отомщение греха былого.[1301] 94 Когда же лангобардский зуб язвил Святую церковь, под его крылами Великий Карл, разя, ее укрыл.[1302] 97 Суди же сам о тех, кто с их грехами Помянут мной,[1303] суди об их делах, Первопричине всех несчастий с вами. 100 Тот – всенародный стяг втоптал во прах Для желтых лилий,[1304] тот – себе присвоил; Чей хуже грех – не взвесишь на весах. 103 Уж пусть бы гибеллин себе устроил Особый стяг! А этот – не для тех, Кто справедливость и его – раздвоил! 106 И гвельфам нет надежды на успех С их новым Карлом;[1305] львы крупней ходили, А эти когти с них сдирали мех! 109 Уже нередко дети слезы лили За грех отца; и люди пусть не ждут, Что бог покинет герб свой ради лилий! 112 А эта малая звезда – приют Тех душ, которые, стяжать желая Хвалу и честь, несли усердный труд. 115 И если цель желаний – лишь такая И верная дорога им чужда, То к небу луч любви восходит, тая. 118 Но в том – часть нашей радости, что мзда Нам по заслугам нашим воздается, Не меньше и не больше никогда. 121 И в этом так отрадно познается Живая Правда, что вовеки взор К какомулибо злу не обернется. 124 Различьем звуков гармоничен хор; Различье высей в нашей жизни ясной – Гармонией наполнило простор. 127 И здесь внутри жемчужины[1306] прекрасной Сияет свет Ромео, чьи труды Награждены неправдой столь ужасной. 130 Но провансальцам горестны плоды Их происков; и тот вкусит мытарства, Кому чужая доблесть злей беды. 133 Рамондо Берингьер четыре царства Дал дочерям; а ведал этим всем Ромео, скромный странник, враг коварства. 136 И все же, наущенный коекем, О нем, безвинном, он повел дознанье; Тот на десять представил пять и семь.[1307] 139 И, нищ и древен, сам ушел в изгнанье; Знай только мир, что в сердце он таил, За кусом кус прося на пропитанье, – 142 Его хваля, он громче бы хвалил!»[1308] ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ 1 Osanna, sanctus Deus sabaoth, Superillustrans claritate tua Felices ignes horum malacoth!»[1309] 4 Так видел я поющей сущность[1310] ту И как она под свой напев поплыла, Двойного света движа красоту. 7 Она себя с другими в пляске слила, И, словно стаю мчащихся огней, Внезапное пространство их укрыло. 10 Колеблясь, я: «Скажи, скажи же ей, – Твердил себе. – Ты, жаждой опаленный, Скажи об этом госпоже твоей!» 13 Но даже в БЕ и в ИЧЕ[1311] приученный Святыню чтить, я, голову клоня, Поник, как человек в истоме сонной. 16 Она, таким не потерпев меня, Сказала, улыбнувшись мне так чудно, Что счастлив будешь посреди огня: 19 «Как я сужу, – а мне понять нетрудно, – Ты тем смущен, что праведная месть Быть может отомщенной правосудно.[1312] 22 Твои сомненья мне легко расплесть; А ты внимай, и то, чего не ведал, В моих словах ты будешь рад обресть. 25 За то, что тот, кто не рождался,[1313] не дал Связать свой произвол, себе на зло, – Прокляв себя, он всех проклятью предал; 28 И человечество больным слегло На долгие века во тьме растленной, Пока господне Слово[1314] не сошло 31 В мир, где природу, от творца вселенной Отпавшую, оно слило с собой Могуществом Любви неизреченной. 34 На то, что я скажу, глаза открой! Была природа эта, с ним слитая, Как в миг созданья, чистой и благой; 37 Но все же – тою, что обитель Рая Утратила, в преступной слепоте Путь истины и жизни презирая. 40 Поэтому и кара на кресте, Свершаясь над природой восприятой, Была превыше всех по правоте; 43 Но также и неправеднейшей платой, Когда мы взглянем, с чьим лицом слилась Природа эта и кто был распятый. 46 Так эта смерть, в последствиях делясь, И бога, и евреев утолила: Раскрылось небо, и земля встряслась. 49 И я тебе отныне разъяснила, Как справедливость праведным судом За праведное мщенье отомстила.[1315] 52 Но только вновь твой ум таким узлом, За мыслью мысль, обвился многократно, Что ждет свободы и томится в нем. 55 Ты говоришь: «Мне это все понятно; Но почему господь для нас избрал Лишь этот путь спасенья, мне невнятно». 58 Никто из тех, мой брат, не проникал Очами в тайну этого решенья, Чей дух в огне любви не возмужал. 61 Здесь многие пытают силу зренья, Но различают мало; потому Скажу, чем вызван этот путь спасенья. 64 Господня благость, отметая тьму, Горит в самой себе и так искрится, Что вечные красоты льет всему. 67 Все то, что прямо от нее струится,[1316] Пребудет вечно, ибо не прейдет Ее печать, когда она ложится. 70 Все то, что прямо от нее течет, Всецело вольно, ибо то свободно, Что новых сил[1317] не ощущает гнет. 73 Что ей сродней, то больше ей угодно; Священный жар, повсюду излучен, Живее в том, что более с ним сходно. 76 И человек всем этим наделен;[1318] Но при утрате хоть единой доли Он благородства своего лишен. 79 Один лишь грех его лишает воли, Лишая сходства с Истинным Добром, Которым он не озаряем боле. 82 Низверженный в достоинстве своем, Он встать не может, не восполнив счета Возмездием за наслажденье злом. 85 Природа ваша, согрешая tota[1319] В своем зерне,[1320] утратила, упав, Свои дары и райские ворота; 88 И не могла вернуть старинных прав, Как строгое покажет рассужденье, Тот или этот брод не миновав: 91 Иль чтоб господь ей даровал прощенье Из милости; иль чтобы смертный сам Мог искупить свое грехопаденье. 94 Теперь направь глаза ко глубинам Предвечного совета и вниманьем Усиленно прильни к мои словам! 97 Сам человек достойным воздаяньем Спасти себя не мог, лишенный сил Принизиться настолько послушаньем, 100 Насколько вознестись, ослушный, мнил; Вот почему своими он делами Себя бы никогда не искупил. 103 Был должен бог, раз не могли вы сами, К всецелой жизни возвратить людей, Будь то одним, будь то двумя путями.[1321] 106 Но делателю дело тем милей, Чем более, из сердца источая, В него вложил он благости своей; 109 И благость божья, в мире разлитая, Тем и другим направилась путем, Вас к прежним высям вознести желая. 112 Между последней тьмой и первым днем Величественней не было деянья И не свершится впредь ни на одном.[1322] 115 Бог, снизошедший до самоотданья, Щедрее вам помог себя спасти, Чем милостью простого оправданья; 118 И были бы закрыты все пути Для правосудья, если б сын господень Не принял униженья во плоти. 121 Чтоб ты от всех сомнений был свободен, Добавлю поясненье,[1323] и тогда Ты зоркостью со мною станешь сходен. 124 Ты говоришь: «И пламя, и вода, И воздух, и земля, и их смешенья, Придя в истленье, гибнут без следа. 127 А это ведь, однако же, творенья! И если речь твоя была верна, Им надо быть избавленным от тленья». 130 Брат! Ангелы и чистая страна, Где ты сейчас, – я так бы изложила, – В их совершенстве созданы сполна.[1324] 133 И те стихии, что ты назвал было, И сложенное ими естество Образовала созданная сила. 136 Сотворены[1325] само их вещество И сила тех творящих излучений, Что льют светила, движась вкруг него. 139 Душа животных и душа растений Из свойственной среды извлечены Лучами и движеньем звездной сени. 142 А ваши жизни в вас вдохновлены Всевышней благостью и к ней всецело, В нее влюбленные, устремлены. 145 На этом основать ты можешь смело И ваше воскресенье, если ты Припомнишь, как творилось ваше тело 148 И творенье прародительской четы». ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ 1 В погибшем мире[1326] веровать привыкли, Что излученья буйной страсти льет – Киприда, движась в третьем эпицикле;[1327] 4 И воздавал не только ей почет Обетов, жертв и песенного звона В былом неведенье былой народ, 7 Но чтились вместе с ней, как мать – Диона, И Купидон – как сын; и басня шла, Что на руки его брала Дидона.[1328] 10 Той, кем я начал, названа была Звезда, которая взирает страстно На солнце то вдогонку, то с чела.[1329] 13 Как мы туда взлетели, мне неясно; Но что мы – в ней, уверило меня Лицо вожатой, став вдвойне прекрасно. 16 Как различимы искры средь огня Иль голос в голосе, когда в движенье Придет второй, а первый ждет, звеня, 19 Так в этом свете видел я круженье Других светил, и разный бег их мчал, Как, верно, разно вечное их зренье.[1330] 22 От мерзлой тучи ветер не слетал Настолько быстрый, зримый иль незримый, Чтоб он не показался тих и вял 25 В сравненье с тем, как были к нам стремимы Святые светы, покидая пляс, Возникший там, где реют серафимы.[1331] 28 Из глуби тех, кто был вблизи от нас, «Осанна» так звучала, что томился По этим звукам я с тех пор не раз. 31 Потом один от прочих отделился И начал так: «Мы все служить тебе Спешим, чтоб ты о нас возвеселился. 34 В одном кругу, круженье и алчбе Наш сонм с чредой Начал[1332] небесных мчится, Которым ты сказал, в земной судьбе: 37 «Вы, чьей заботой третья твердь кружится»;[1333] Мы так полны любви, что для тебя Нам будет сладко и остановиться». 40 Мои глаза доверили себя Глазам владычицы и, их ответом Сомнение и робость истребя, 43 Вновь утолились этим щедрым светом, И я: «Скажи мне, кто вы», – произнес, Замкнув большое чувство в слове этом. 46 Как в мощи и в объеме он возрос От радости, – чья сила умножала Былую радость, – слыша мой вопрос! 49 И, став таким, он мне сказал: «Я мало Жил в дельном мире;[1334] будь мой век продлен, То многих бы грядущих зол не стало. 52 Я от тебя весельем утаен, В лучах его сиянья незаметный, Как червячок средь шелковых пелен. 55 Меня любил ты, с нежностью не тщетной: Будь я в том мире, ты бы увидал Не только лишь листву любви ответной. 58 Тот левый берег, где свой быстрый вал Проносит, смешанная с Соргой, Рона, Господства моего в грядущем ждал;[1335] 61 Ждал рог авзонский, где стоят Катона, Гаэта, Бари, замкнуты в предел От Верде к Тронто до морского лона.[1336] 64 И на челе моем уже блестел Венец земли, где льется ток Дуная,[1337] Когда в немецких долах отшумел; 67 Прекрасная Тринакрия, – вдоль края, Где от Пахина уперся в Пелор Залив, под Эвром стонущий, мгляная 70 Не от Тифея, а от серных гор,[1338] – Ждала бы государей, мной рожденных От Карла и Рудольфа, до сих пор, 73 Когда бы произвол, для угнетенных Мучительный, Палермо не увлек Вскричать: «Бей, бей!» – восстав на беззаконных.[1339] 76 И если бы мой брат предвидеть мог, Он с каталонской жадной нищетою Расстался бы, чтоб избежать тревог;[1340] 79 Ему пора бы, к своему покою, Иль хоть другим, его груженый струг Не загружать поклажею двойною: 82 Раз он, сын щедрого, на щедрость туг, Ему хоть слуг иметь бы надлежало, Которые не жадны класть в сундук». 85 «То ликованье, что во мне взыграло От слов твоих, о господин мой, там, Где всяких благ скончанье и начало, 88 Ты видишь, верю, как я вижу сам; Оно мне тем милей; и тем дороже, Что зримо вникшим в божество глазам. 91 Ты дал мне радость, дай мне ясность тоже; Я тем смущен, услышав отзыв твой, Что сладкое зерно столь горьким всхоже».[1341] 94 Так я; и он: «Вняв истине одной, К тому, чем вызвано твое сомненье, Ты станешь грудью, как стоишь спиной. 97 Тот, кто приводит в счастье и вращенье Мир, где ты всходишь, в недрах этих тел Преображает в силу провиденье. 100 Не только бытие предусмотрел Для всех природ всесовершенный Разум, Но вместе с ним и лучший их удел. 103 И этот лук,[1342] стреляя раз за разом, Бьет точно, как предвидено стрельцом, И как бы направляем метким глазом. 106 Будь иначе, твердь на пути твоем Такие действия произвела бы, Что был бы вместо творчества – разгром; 109 А это означало бы, что слабы Умы, вращающие сонм светил, И тот, чья мудрость их питать должна бы. 112 Ты хочешь, чтоб я ближе разъяснил?» И я: «Не надо. Мыслить безрассудно, Что б нужный труд природу утомил». 115 И он опять: «Скажи, мир жил бы скудно, Не будь согражданином человек?» «Да, – молвил я, – что доказать нетрудно». 118 «А им он был бы, если б не прибег Для разных дел к многоразличью званий? Нет, если правду ваш мудрец[1343] изрек». 121 И, в выводах дойдя до этой грани, Он заключил: «Отсюда – испокон Различны корни ваших содеяний:[1344] 124 В одном родится Ксеркс, в другом – Солон, В ином – Мельхиседек, в ином – родитель Того, кто пал, на крыльях вознесен.[1345] 127 Круговорот природы, впечатлитель Мирского воска, свой блюдет устав, Но он не поглядит, где чья обитель.[1346] 130 Вот почему еще в зерне Исав Несходен с Яковом,[1347] отец Квирина Так низок, что у Марса больше прав.[1348] 133 Рожденная природа заедино С рождающими шла бы их путем, Когда б не сила божьего почина.[1349] 136 Теперь ты к истине стоишь лицом. Но чтоб ты знал, как мне с тобой отрадно, Хочу, чтоб вывод был тебе плащом.[1350] 139 Природа, если к ней судьба нещадна, Всегда, как и любой другой посев На чуждой почве, смотрит неприглядно; 142 И если б мир, основы обозрев, Внедренные природой, шел за нею, Он стал бы лучше, в людях преуспев. 145 Вы тащите к церковному елею Такого, кто родился меч нести,[1351] А царство отдаете казнодею[1352]; 148 И так ваш след сбивается с пути». ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ 1 Когда твой Карл, прекрасная Клеменца[1353], Мне пролил свет, он, вскрыв мне, как вражда Обманет некогда его младенца,[1354] 4 Сказал: «Молчи, и пусть кружат года!» И я могу сказать лишь, что рыданья Ждут тех, кто пожелает вам вреда. 7 И жизнь святого этого сиянья Опять вернулась к Солнцу,[1355] им полна, Как, в мере, им доступной, все созданья. 10 Вы, чья душа греховна и темна, Как от него вас сердце отвратило, И голова к тщете обращена? 13 И вот ко мне еще одно светило[1356] Приблизилось и, озарясь вовне, Являло волю сделать, что мне мило. 16 Взор Беатриче, устремлен ко мне, В том, что она с просимым согласилась, Меня, как прежде, убедил вполне. 19 «Дай, чтобы то, чего хочу, свершилось, Блаженный дух, – сказал я, – мне явив, Что мысль моя в тебе отобразилась». 22 Свет, новый для меня, на мой призыв, Из недр своих, пред тем звучавших славой, Сказал, как тот, кто щедрым быть счастлив: 25 «В Италии, растленной и лукавой, Есть область от Риальто до вершин, Нистекших Брентой и нистекших Пьявой;[1357] 28 И там есть невысокий холм[1358] один, Откуда факел снизошел, грозою Кругом бушуя по лицу равнин.[1359] 31 Единого он корня был со мною; Куниццой я звалась и здесь горю Как этой побежденная звездою. 34 Но, в радости, себя я не корю Такой моей судьбой, хоть речи эти Я не для вашей черни говорю. 37 Об этом драгоценном самоцвете,[1360] Всех ближе к нам, везде молва идет; И прежде чем умолкнуть ей на свете, 40 Упятерится этот сотый год:[1361] Тех, чьи дела величьем пресловуты, Вторая жизнь[1362] вослед за первой ждет. 43 В наш век о ней не думает замкнутый Меж Адиче и Тальяменто[1363] люд И, хоть избит, не тужит ни минуты. 46 Но падуанцы вскорости нальют Другой воды в Виченцское болото, Затем что долг народы не блюдут.[1364] 49 А там, где в Силе впал Каньян, есть ктото, Владычащий с подъятой головой, Кому уже готовятся тенета.[1365] 52 И Фельтро оросит еще слезой Грех мерзостного пастыря, столь черный, Что в Мальту[1366] не вступали за такой. 55 Под кровь феррарцев нужен чан просторный, И взвешивая, сколько унций в ней, Устал бы, верно, весовщик упорный, 58 Когда свой дар любезный иерей Преподнесет как честный враг крамолы; Но этим там не удивишь людей.[1367] 61 Вверху есть зеркала (для вас – Престолы), Откуда блещет нам судящий бог; И эти наши истины глаголы».[1368] 64 Она умолкла; и я видеть мог, Что мысль она к другому обратила, Затем что прежний круг ее увлек. 67 Другая радость,[1369] чье величье было Мне ведомо, всплыла, озарена, Как лал, в который солнце луч вонзило. 70 Вверху весельем яркость рождена, Как здесь – улыбка; а внизу мрачнеет Тем больше тень, чем больше мысль грустна.[1370] 73 «Бог видит все, твое в нем зренье реет, – Я молвил, – дух блаженный, и ничья Мысль у тебя себя украсть не смеет. 76 Так что ж твой голос, небо напоя Среди святых огней,[1371] чей хор кружится, В шести крылах обличия тая, 79 Не даст моим желаньям утолиться? Я упредить вопрос твой был бы рад, Когда б, как ты в меня, в тебя мог влиться». 82 «Крупнейший дол, где волны бег свой мчат, – Так отвечал он, – устремясь широко Из моря, землю взявшего в обхват, 85 Меж розных берегов настоль глубоко Уходит к солнцу, что, где прежде был Край неба, там круг полдня видит око.[1372] 88 Я на прибрежье между Эбро жил И Магрою, чей ток, уже у ската, От Генуи Тоскану отделил.[1373] 91 Близки часы восхода и заката В Буджее и в отечестве моем,[1374] Согревшем кровью свой залив когдато.[1375] 94 Среди людей, кому я был знаком, Я звался Фолько; и как мной владело Вот это небо, так я властен в нем; 97 Затем что не страстней была дочь Бела, Сихея и Креусу оскорбив,[1376] Чем я, пока пора не отлетела, 100 Ни родопеянка, с которой лжив Был Демофонт,[1377] ни сам неодолимый Алкид[1378], Иолу в сердце заключив. 103 Но здесь не скорбь, а радость обрели мы Не о грехе, который позабыт, А об Уме, чьей мыслью мы хранимы. 106 Здесь видят то искусство, что творит С такой любовью, и глядят в Начало, Чья благость к высям дольный мир стремит. 109 Но чтоб на все, что мысль твоя желала Знать в этой сфере, ты унес ответ, Последовать и дальше мне пристало. 112 Ты хочешь знать, кто в этот блеск одет, Которого близ нас сверкает слава, Как солнечный в прозрачных водах свет. 115 Так знай, что в нем покоится Раава[1379] И, с нашим сонмом соединена, Его увенчивает величаво. 118 И в это небо, где заострена Тень мира вашего,[1380] из душ всех ране В Христовой славе принята она. 121 Достойно, чтоб она среди сияний Одной из твердей знаменьем была Победы, добытой поднятьем дланей,[1381] 124 Затем что Иисусу[1382] помогла Прославиться в Земле Обетованной, Мысль о которой папе не мила.[1383] 127 Твоя отчизна, стебель окаянный Того, кто первый богом пренебрег[1384] И завистью наполнил мир пространный, 130 Растит и множит проклятый цветок,[1385] Чьей прелестью с дороги овцы сбиты, А пастырь волком стал в короткий срок. 133 С ним слово божье и отцы забыты, И отдан Декреталиям весь пыл,[1386] Заметный в том, чем их поля покрыты.[1387] 136 Он папе мил и кардиналам мил; Их ум не озабочен Назаретом, Куда раскинул крылья Гавриил.[1388] 139 Но Ватикан и чтимые всем светом Святыни Рима, где кладбище тех, Кто пал, Петровым следуя заветам, 142 Избудут вскоре любодейный грех».[1389] ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ 1 Взирая на божественного Сына, Дыша Любовью вечной, как и тот, Невыразимая Первопричина 4 Все, что в пространстве и в уме течет, Так стройно создала, что наслажденье Невольно каждый, созерцая, пьет. 7 Так устреми со мной, читатель, зренье К высоким дугам до узла того, Где то и это встретилось движенье;[1390] 10 И полюбуйся там на мастерство Художника, который, им плененный, Очей не отрывает от него. 13 Взгляни, как там отходит круг наклонный,[1391] Где движутся планеты и струят Свой дар земле на зов ее исконный: 16 Когда бы не был этот путь покат, Погибло бы небесных сил немало И чуть не все, чем дельный мир богат;[1392] 19 А если б их стезя положе стала Иль круче, то премногого опять Внизу бы и вверху недоставало. 22 Итак, читатель, не спеши вставать, Продумай то, чего я здесь касался, И восхитишься, не успев устать. 25 Тебе я подал, чтоб ты сам питался, Затем что полностью владеет мной Предмет, который описать я взялся. 28 Первослуга природы,[1393] мир земной Запечатлевший силою небесной И мерящий лучами час дневной, – 31 С узлом вышепомянутым совместный, По тем извоям совершал свой ход, Где он все раньше льет нам свет чудесный.[1394] 34 И я был с ним,[1395] но самый этот взлет Заметил лишь, как всякий замечает, Что мысль пришла, когда она придет. 37 Так быстро Беатриче восхищает От блага к лучшему, что ей вослед Стремленье времени не поспевает. 40 Каким сияньем каждый был одет Там, в недрах солнца, посещенных нами, Раз отличает их не цвет, а свет! 43 Умом, искусством, нужными словами Я беден, чтоб наглядный дать рассказ. Пусть верят мне и жаждут видеть сами. 46 А что воображенье низко в нас Для тех высот, дивиться вряд ли надо, Затем что солнце есть предел для глаз.[1396] 49 Таков был блеск четвертого отряда Семьи Отца, являющего ей То, как он дышит и рождает чадо.[1397] 52 И Беатриче мне: «Благоговей Пред Солнцем ангелов,[1398] до недр плотского Тебя вознесшим милостью своей!» 55 Ничья душа не ведала такого Святого рвенья и отдать свой пыл Создателю так не была готова, 58 Как я, внимая, это ощутил; И так моя любовь им поглощалась, Что я о Беатриче позабыл. 61 Она, без гнева, только, улыбалась, Но так сверкала радость глаз святых, Что целостная мысль моя распалась.[1399] 64 Я был средь блесков мощных и живых,[1400] Обвивших нас венцом, и песнь их слаще Еще была, чем светел облик их; 67 Так дочь Латоны[1401] иногда блестящий Наденет пояс, и, огнем сквозя, Он светится во мгле, его держащей. 70 В дворце небес, где шла моя стезя, Есть много столь прекрасных самоцветов, Что их из царства унести нельзя; 73 Таким вот было пенье этих светов; И кто туда подняться не крылат, Тот от немого должен ждать ответов. 76 Когда певучих солнц горящий ряд, Нас, неподвижных, обогнув трикраты, Как звезды, к остьям близкие, кружат, 79 Остановился, как среди баллаты[1402], Умолкнув, станет женщин череда И ждет, чтоб отзвучал запев начатый, 82 В одном из них послышалось[1403]: «Когда Луч милости, который возжигает Неложную любовь, чтоб ей всегда 85 Расти с ним вместе, так в тебе сверкает, Что вверх тебя ведет по ступеням, С которых сшедший – вновь на них – ступает, 88 Тот, кто твоим бы отказал устам В своем вине, не больше бы свободен Был, чем поток, не льющийся к морям. 91 Ты хочешь знать, какими благороден Цветами наш венок, сплетенный тут Вкруг той, кем ты введен в чертог господень. 94 Я был одним из агнцев, что идут За Домиником на пути богатом,[1404] Где все, кто не собьется, тук найдут.[1405] 97 Тот, справа, был мне пестуном и братом; Альбертом из Колоньи[1406] он звался, А я звался Фомою Аквинатом. 100 Чтоб наша вязь тебе предстала вся, Внимай, венец блаженный озирая И взор вослед моим словам неся. 103 Вот этот пламень льет, не угасая, Улыбка Грациана, кем стоят И тот, и этот суд, к отраде Рая.[1407] 106 Другой, чьи рядом с ним лучи горят, Был тем Петром, который, как однажды Вдовица, храму подарил свой клад.[1408] 109 Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый Из нас, любовью вдохновлен такой, Что мир о нем услышать полон жажды. 112 В нем – мощный ум, столь дивный глубиной, Что, если истина – не заблужденье, Такой мудрец не восставал второй.[1409] 115 За ним ты видишь светоча горенье, Который, во плоти, провидеть мог Природу ангелов и их служенье.[1410] 118 Соседний с ним счастливый огонек – Заступник христианских лет, который И Августину некогда помог.[1411] 121 Теперь, вращая мысленные взоры От света к свету вслед моим хвалам, Ты, чтоб узнать восьмого, ждешь опоры. 124 Узрев все благо, радуется там Безгрешный дух, который лживость мира Являет внявшему его словам. 127 Плоть, из которой он был изгнан, сиро Лежит в Чельдоро[1412]; сам же он из мук И заточенья принят в царство мира.[1413] 130 За ним пылают, продолжая круг, Исидор, Беда и Рикард с ним рядом, Нечеловек в превысшей из наук.[1414] 133 Тот, вслед за кем ко мне вернешься взглядом, Был ясный дух, который смерти ждал, Отравленный раздумий горьким ядом: 136 То вечный свет Сигера, что читал В Соломенном проулке в оны лета И неугодным правдам поучал».[1415] 139 И как часы[1416] зовут нас в час рассвета, Когда невеста божья,[1417] встав, поет Песнь утра жениху и ждет привета, 142 И зубчик гонит зубчик и ведет, И нежный звон «тиньтинь» – такой блаженный, Что дух наш полн любви, как спелый плод, – 145 Так предо мною хоровод священный Вновь двинулся, и каждый голос в лад Звучал другим, такой неизреченный, 148 Как может быть лишь в вечности услад. ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ 1 О смертных безрассудные усилья! Как скудоумен всякий силлогизм, Который пригнетает ваши крылья.[1418] 4 Кто разбирал закон, кто – афоризм,[1419] Кто к степеням священства шел ревниво, Кто к власти чрез насилье иль софизм, 7 Кого манил разбой, кого – нажива, Кто, в наслажденья тела погружен, Изнемогал, а кто дремал лениво, 10 В то время как, от смуты отрешен, Я с Беатриче в небесах далече Такой великой славой был почтен. 13 Как только каждый прокружил до встречи С той точкой круга, где он прежде был, Все утвердились, как в светильнях свечи. 16 И светоч, что со мною говорил,[1420] Вновь подал голос из своей средины И, улыбаясь, ярче засветил: 19 «Как мне сияет луч его единый, Так, вечным Светом очи напоя, Твоих раздумий вижу я причины. 22 Ты ждешь, недоуменный, чтобы я Тебе раскрыл пространней, чем вначале, Дабы могла постичь их мысль твоя, 25 Мои слова, что «Тук найдут»,[1421] и дале, Где я сказал: «Не восставал второй»:[1422] Здесь надо, чтоб мы строго различали. 28 Небесный промысл, правящий землей С премудростью, в которой всякий бренный Мутится взор, сраженный глубиной, 31 Дабы на зов любимого священный Невеста жениха, который с ней В стенаньях кровью обручен блаженной, 34 Уверенней спешила и верней, Как в этом, так и в том руководима, Определил ей в помощь двух вождей.[1423] 37 Один пылал пыланьем серафима; В другом казалась мудрость так светла, Что он блистал сияньем херувима.[1424] 40 Лишь одного прославлю я дела,[1425] Но чтит двоих речь об одном ведущий, Затем что цель их общею была. 43 Промеж Тупино и водой, текущей С Убальдом облюбованных высот, Горы высокой сходит склон цветущий 46 И на Перуджу зной и холод шлет В Ворота Солнца; а за ним, стеная, Ночера с Гвальдо терпят тяжкий гнет.[1426] 49 На этом склоне, там, где он, ломая, Смягчает кручу, солнце в мир взошло,[1427] Как всходит это, в Ганге возникая; 52 Чтоб это место имя обрело, «Ашези»[1428] – слишком мало бы сказало; Скажи «Восток», чтоб точно подошло. 55 Оно, хотя еще недавно встало, Своей великой силой кое в чем Уже земле заметно помогало. 58 Он юношей вступил в войну с отцом За женщину,[1429] не призванную к счастью: Ее, как смерть, впускать не любят в дом; 61 И, перед должною духовной властью Et coram patre с нею обручась,[1430] Любил ее, что день, то с большей страстью. 64 Она, супруга первого[1431] лишась, Тысячелетье с лишним, в доле темной, Вплоть до него любви не дождалась; 67 Хоть ведали, что в хижине укромной, Где жил Амикл, не дрогнула она Пред тем, кого страшился мир огромный,[1432] 70 И так была отважна и верна, Что, где Мария ждать внизу осталась, К Христу на крест взошла[1433] рыдать одна. 73 Но, чтоб не скрытной речь моя казалась, Знай, что Франциском этот был жених И Нищетой невеста называлась. 76 При виде счастья и согласья их, Любовь, умильный взгляд и удивленье Рождали много помыслов святых. 79 Бернарда[1434] первым обуяло рвенье, И он, разутый, вслед спеша, был рад Столь дивное настичь упокоенье. 82 О, дар обильный, о, безвестный клад! Эгидий бос, и бос Сильвестр,[1435] ступая Вслед жениху; так дева манит взгляд! 85 Отец и пестун из родного края Уходит с нею, теми окружен, Чей стан уже стянула вервь простая; 88 Вежд не потупив оттого, что он Сын Пьетро Бернардоне и по платью И по лицу к презреннейшим причтен, 91 Он царственно все то, что движет братью, Раскрыл пред Иннокентием, и тот Устав скрепил им первою печатью.[1436] 94 Когда разросся бедненький народ Вокруг того, чья жизнь столь знаменита. Что славу ей лишь небо воспоет, 97 Дух повелел, чтоб вновь была повита Короной, из Гонориевых рук, Святая воля их архимандрита.[1437] 100 Когда же он, томимый жаждой мук, Перед лицом надменного султана[1438] Христа восславил и Христовых слуг, 103 Но увидал, что учит слишком рано Незрелых, и вернулся, чтоб во зле Не чахла италийская поляна, – 106 На Тибр и Арно рознящей скале[1439] Приняв Христа последние печати, Он их носил два года на земле.[1440] 109 Когда даритель столькой благодати Вознес того, кто захотел таким Смиренным быть, к им заслуженной плате, 112 Он братьям, как наследникам своим, Возлюбленную поручил всецело, Хранить ей верность завещая им; 115 Единственно из рук ее хотела Его душа в чертог свой отойти, Иного гроба не избрав для тела.[1441] 118 Суди ж, каков был тот,[1442] кто с ним вести Достоин был вдвоем ладью Петрову[1443] Средь волн морских по верному пути! 121 Он нашей братьи положил основу;[1444] И тот, как видишь, грузит добрый груз, Кто с ним идет, его послушный слову. 124 Но у овец его явился вкус К другому корму, и для них надежней Отыскивать вразброд запретный кус. 127 И чем ослушней и неосторожней Их стадо разбредется, кто куда, Тем у вернувшихся сосцы порожней. 130 Есть и такие, что, боясь вреда, Теснятся к пастуху; но их так мало, Что холст для ряс в запасе есть всегда. 133 И если внятно речь моя звучала И ты вослед ей со вниманьем шел И помнишь то, что я сказал сначала, 136 Ты часть искомого теперь обрел;[1445] Ты видишь, как на щепки ствол сечется И почему я оговорку ввел: 139 «Где тук найдут[1446] все те, кто не собьется». ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ 1 Едва последнее промолвил слово Благословенный пламенник, как вдруг Священный жернов[1447] закружился снова; 4 И, прежде чем он сделал полный круг, Другой его замкнул, вовне сплетенный, Сливая с шагом шаг, со звуком звук, 7 Звук столь певучих труб,[1448] что, с ним сравненный, Земных сирен и муз[1449] не ярче звон, Чем рядом с первым блеском – отраженный. 10 Как средь прозрачных облачных пелен Над луком лук соцветный и сокружный[1450] Посланницей Юноны[1451] вознесен, 13 И образован внутренним наружный, Похож на голос той, чье тело страсть, Как солнце – мглу, сожгла тоской недужной,[1452] 16 И предрекать дается людям власть, – Согласно с божьим обещаньем Ною,[1453] – Что вновь на мир потопу не ниспасть, 19 Так вечных роз гирляндою двойною Я окружен был с госпожой моей, И внешняя скликалась с основною. 22 Когда же пляску и, совместно с ней, Торжественное пенье и пыланье Приветливых и радостных огней 25 Остановило слитное желанье, Как у очей совместное всегда Бывает размыканье и смыканье, – 28 В одном из новых пламеней тогда Раздался голос,[1454] взор мой понуждая Оборотиться, как иглу звезда,[1455] 31 И начал так: «Любовь, во мне сияя, Мне речь внушает о другом вожде,[1456] Как о моем была здесь речь благая. 34 Им подобает вместе быть везде, Чтоб нераздельно слава озаряла Обьединенных в боевом труде. 37 Христова рать, хотя мечи достала Такой ценой, медлива и робка За стягом шла, и ратных было мало, 40 Когда царящий вечные века, По милости, не в воздаянье чести, Смутившиеся выручил войска, 43 Послав, как сказано, своей невесте Двух воинов, чье дело, чьи слова Рассеянный народ собрали вместе. 46 В той стороне, откуда дерева Живит Зефир, отрадный для природы,[1457] Чтоб вновь Европу облекла листва, 49 Близ берега, в который бьются воды, Где солнце, долго идя на закат, Порою покидает все народы, 52 Есть Каларога[1458], благодатный град, Хранительным щитом обороненный, В котором лев принижен и подъят.[1459] 55 И в нем родился этот друг влюбленный Христовой веры, поборатель зла, Благой к своим, с врагами непреклонный. 58 Чуть создана, душа его была Полна столь мощных сил, что, им чревата, Пророчествовать мать его могла. 61 Когда у струй, чье омовенье свято,[1460] Брак[1461] между ним и верой был свершен, Взаимным благом их даря богато, 64 То восприемнице приснился сон, Какое чудное исполнить дело Он с верными своими вдохновлен. 67 И, чтобы имя суть запечатлело, Отсюда[1462] мысль сошла его наречь Тому подвластным, чьим он был всецело. 70 Он назван был Господним;[1463] строя речь, Сравню его с садовником Христовым, Который призван сад его беречь. 73 Он был посланцем и слугой Христовым, И первый взор любви, что он возвел, Был к первым наставлениям Христовым. 76 В младенчестве своем на жесткий пол Он, бодрствуя, ложился, молчаливый, Как бы твердя: «Я для того пришел». 79 Вот чей отец воистину Счастливый![1464] Вот чья воистину Иоанна мать, Когда истолкования правдивы![1465] 82 Не ради благ, манящих продолжать Нелегкий путь Остийца и Фаддея,[1466] Успел он много в малый срок познать, 85 Но лишь о манне истинной радея; И обходил дозором вертоград,[1467] Чтоб он, в забросе, не зачах, седея; 88 И у престола,[1468] что во много крат Когдато к истым бедным был добрее, В чем выродок[1469] воссевший виноват, 91 Не назначенья в должность поскорее, Не льготу – два иль три считать за шесть, Не decimas, quae sunt pauperum Dei,[1470] 94 Он испросил; но право бой повесть С заблудшими за то зерно, чьих кринов Двенадцать чет пришли тебя оплесть.[1471] 97 Потом, познанья вместе с волей двинув, Он выступил апостольским послом, Себя как мощный водопад низринув 100 И потрясая на пути своем Дебрь лжеученья,[1472] там сильней бурливый, Где был сильней отпор, чинимый злом. 103 И от него пошли ручьев разливы, Чьей влагою вселенский сад возрос, Где деревца поэтому так живы. 106 Раз таково одно из двух колес[1473] Той колесницы, на которой билась Святая церковь средь усобных гроз, – 109 Тебе, наверно, полностью открылась Вся мощь второго,[1474] чья святая цель Здесь до меня Фомой превозносилась. 112 Но след, который резала досель Его окружность, брошен в дни упадка, И винный камень заменила цвель. 115 Державшиеся прежде отпечатка Его шагов свернули до того, Что ставится на место пальцев пятка. 118 И явит в скором времени жнитво, Как плох был труд, когда сорняк взрыдает, Что житница закрыта для него.[1475] 121 Конечно, кто подряд перелистает Всю нашу книгу, встретит и листок, Гласящий: «Я таков, как подобает». 124 Не в Акваспарте он возникнуть мог И не в Касале, где твердят открыто, Что слишком слаб устав иль слишком строг.[1476] 127 Я жизнь Бонавентуры, минорита Из Баньореджо;[1477] мне мой труд был свят, И все, что слева,[1478] было мной забыто. 130 Здесь Августин, и здесь Иллюминат,[1479] Из первых меж босыми бедняками, Которым бог, с их вервием, был рад. 133 Гугон святого Виктора меж нами,[1480] И Петр Едок, и Петр Испанский тут, Что сквозь двенадцать книг горит лучами;[1481] 136 Нафан – пророк, и тот, кого зовут Золотоустым,[1482] и Ансельм[1483] с Донатом, К начатку знаний приложившим труд;[1484] 139 А там – Рабан[1485]; а здесь, в двунадесятом Огне сияет вещий Иоахим, Который был в Калабрии аббатом.[1486] 142 То брат Фома, любовию палим, Завидовать такому паладину Подвиг меня хвалением своим;[1487] 145 И эту вслед за мной подвиг дружину». ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ 1 Пусть тот, кто хочет знать, что мне предстало, Вообразит (и образ, внемля мне, Пусть держит так, как бы скала держала) 4 Пятнадцать звезд,[1488] горящих в вышине Таким огнем, что он нам блещет в очи, Любую мглу преодолев извне; 7 Вообразит тот Воз, что дни и ночи На нашем небе вольно колесит И от круженья дышла – не короче;[1489] 10 И устье рога пусть вообразит, Направленного от иглы устоя, Вокруг которой первый круг скользит;[1490] 13 И что они, два знака в небе строя, Как тот, который, чуя смертный хлад, Сплела в былые годы дочь Миноя, 16 Свои лучи друг в друге единят, И эти знаки, преданы вращенью, Идут – один вперед, другой назад,[1491] – 19 И перед ним возникнет смутной тенью Созвездие, чей светлый хоровод Меня обвил своей двойною сенью, 22 С которой все, что опыт нам несет, Так несравнимо, как теченье Кьяны[1492] С той сферою, что всех быстрей течет. 25 Не Вакх там воспевался, не пеаны[1493], Но в божеской природе три лица И как она и смертная слияны. 28 Умолкнув, оба замерли венца И устремили к нам свое сиянье, И вновь их счастью не было конца. 31 В содружестве божеств прервал молчанье Тот свет,[1494] из чьих я слышал тайников О божьем нищем чудное сказанье, 34 И молвил: «Раз один из двух снопов Смолочен, и зерно лежать осталось, Я и второй обмолотить готов.[1495] 37 Ты думаешь, что в грудь,[1496] откуда бралось Ребро, чтоб вышла нежная щека, Чье нёбо миру дорого досталось,[1497] 40 И в ту,[1498] которая на все века, Пронзенная, так много искупила, Что стала всякая вина легка, 43 Весь свет, вместить который можно было Природе человеческой, влила Создавшая и ту и эту сила; 46 И странной речь моя тебе была, Что равного не ведала второго Душа,[1499] чья благость в пятый блеск вошла. 49 Вняв мой ответ, поймешь, что это слово С тем, что ты думал, точно совпадет, И средоточья в круге нет другого.[1500] 52 Все, что умрет, и все, что не умрет,[1501] – Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий Своей Любовью бытие дает;[1502] 55 Затем что животворный Свет, идущий От Светодавца и единый с ним, Как и с Любовью, третьей с ними сущей, 58 Струит лучи, волением своим, На девять сущностей,[1503] как на зерцала, И вечно остается неделим; 61 Оттуда сходит в низшие начала, Из круга в круг, и под конец творит Случайное и длящееся мало; 64 Я под случайным мыслю всякий вид Созданий, все, что небосвод кружащий Чрез семя и без семени плодит. 67 Их воск изменчив, наравне с творящей Его средой,[1504] и потому чекан Дает то смутный оттиск, то блестящий. 70 Вот почему, при схожести семян, Бывает качество плодов неравно, И разный ум вам от рожденья дан. 73 Когда бы воск был вытоплен исправно И натиск силы неба был прямой, То блеск печати выступал бы явно. 76 Но естество его туманит мглой, Как если б мастер проявлял уменье, Но действовал дрожащею рукой. 79 Когда ж Любовь, расположив Прозренье, Его печатью Силы нагнела, То возникает высшее свершенье. 82 Так некогда земная персть могла Стать совершеннее, чем все живое; Так приснодева в чреве понесла. 85 И в том ты прав, что естество земное Не ведало носителей таких И не изведает, как эти двое. 88 И если бы на этом я затих: «Так чем его премудрость[1505] несравненна?» – Гласило бы начало слов твоих. 91 Но чтоб открылось то, что сокровенно, Помысли, кем он был и чем влеком, Он, услыхав: «Проси!»[1506] – молил смиренно. 94 Я выразил не темным языком, Что он был царь, о разуме неложном Просивший, чтобы истым быть царем; 97 Не чтобы знать, в числе их непреложном, Всех движителей;[1507] можно ль заключить К necesse при necesse и возможном;[1508] 100 И можно ль primum motum допустить;[1509] Иль треугольник в поле полукружья, Но не прямоугольный, начертить. 103 Так вот и прежде речь клонил к тому ж я: Я в царственную мудрость направлял, Сказав про мудрость, острие оружья. 106 И ты взглянув ясней на «восставал»[1510], Поймешь, что это значит – меж царями; Их – множество, а круг хороших мал. 109 Вот, что моими сказано словами; Их смысл с твоим сужденьем совместим О праотце и о любимом нами.[1511] 112 Да будет то свинцом к стопам твоим, Чтобы ты шел неспешно, как усталый, И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим; 115 Затем что между шалых – самый шалый, Кто утверждать берется наобум Их отрицать с оглядкой слишком малой. 118 Ведь очень часто торопливость дум На ложный путь заводит безрассудно; А там пристрастья связывают ум. 121 И хуже, чем напрасно, ладит судно И не таким, как был, свершит возврат Тот рыбарь правды, чье уменье скудно. 124 Примерами перед людьми стоят Брис, Парменид, Мелисс и остальные,[1512] Которые блуждали наугад, 127 Савелий, Арий и глупцы иные,[1513] Что были как мечи для божьих книг И искривляли лица их прямые. 130 Никто не думай, что он столь велик, Чтобы судить; никто не числи жита, Покуда колос в поле не поник. 133 Я видел, как угрюмо и сердито Смотрел терновник, за зиму застыв, Но миг – и роза на ветвях раскрыта; 136 Я видел, как, легок и горделив, Бежал корабль далекою путиной И погибал, уже входя в залив. 139 Пусть донна Берта или сэр Мартино,[1514] Раз ктото щедр, а ктото любит красть, О них не судят с богом заедино; 142 Тот может встать, а этот может пасть». ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 1 В округлой чаше от каймы к средине Спешит вода иль изнутри к кайме, Смущенная извне иль в сердцевине. 4 Мне этот образ вдруг мелькнул в уме, Когда умолкло славное светило И Беатриче тотчас вслед Фоме 7 В таких словах начать благоволила, – Настолько совершенно к их речам Уподобленье это подходило:[1515] 10 «Он хочет, хоть и не открылся вам Ни голосом, ни даже помышленьем, В одной из истин снизойти к корням. 13 Скажите: свет, который стал цветеньем Природы вашей, будет ли всегда Вас окружать таким же излученьем? 16 И если вечно будет, то, когда Вы станете опять очами зримы,[1516] Как зренью он не причинит вреда?» 19 Как, налетевшей радостью стремимы, Те, кто крутится в пляске круговой, Поют звончей и вновь неутомимы, 22 Так, при словах усердной просьбы той, Живей сказалась душ святых отрада Кружением и звуков красотой. 25 Кто сетует, что смерть изведать надо, Чтоб в горних жить, – не знает, не вкусив, Как вечного дождя[1517] сладка прохлада. 28 Единый, двое, трое, тот, кто жив И правит вечно, в трех и в двух единый, Все, беспредельный, в свой предел вместив, 31 Трикраты был воспет святой дружиной Тех духов, и напев так нежен был, Что всем наградам мог бы стать вершиной. 34 И вскоре, в самом дивном из светил Меньшого круга,[1518] голос благочестный, Как, верно, ангел деве говорил, 37 Ответил так: «Доколе Рай небесный Длит праздник свой, любовь, что в нас живет, Лучится этой ризою чудесной. 40 Ее свеченье пылу вслед идет, Пыл – зренью вслед, а зренье – до предела, Который милость сверх заслуг дает. 43 Когда святое в новой славе тело Нас облечет, то наше существо Прекрасней станет, завершась всецело: 46 Окрепнет свет, которым божество По благости своей нас одарило, Свет, нам дающий созерцать его; 49 И зрения тогда окрепнет сила, Окрепнет пыл, берущий мощность в нем, Окрепнет луч, рождаемый от пыла. 52 Но словно уголь, пышущий огнем, Господствует над ним своим накалом, Неодолим в сиянии своем, 55 Так пламень, нас обвивший покрывалом, Слабее будет в зримости, чем плоть, Укрытая сейчас могильным валом. 58 И этот свет не будет глаз колоть: Орудья тела будут в меру сильны Для всех услад, что нам пошлет господь». 61 Казались оба хора так умильны, Стремясь «Аминь!»[1519] проговорить скорей, Что им был явно дорог прах могильный, – 64 Быть может, и не свой, а матерей, Отцов и всех, любимых в мире этом И ставших вечной чередой огней. 67 И вот кругом, сияя ровным светом, Забрезжил блеск над окаймлявшим нас, Подобный горизонту пред рассветом. 70 И как на небе в предвечерний час Рождаются мерцанья, чуть блистая, Которым верит и не верит глаз, 73 Я видел – новых бестелесных стая Окрест меня сквозит со всех сторон, Два прежних круга третьим окружая. 76 О Духа пламень истинный! Как он Разросся вдруг, столь огнезарно ясно, Что взгляд мой не стерпел и был сражен! 79 Но Беатриче так была прекрасна И радостна, что это воссоздать Мое воспоминание не властно. 82 В ней силу я нашел глаза поднять И увидал, что вместе с ней мгновенно Я в высшую вознесся благодать. 85 Что я поднялся, было несомненно, Затем что глубь звезды,[1520] раскалена, Смеялась рдяней, чем обыкновенно. 88 Всем сердцем, речью, что во всех одна, Создателю свершил я всесожженье[1521] За то, что эта милость мне дана; 91 Еще в груди не кончилось горенье Творимой жертвы, как уже я знал, Что господу угодно приношенье; 94 Затем что сонм огней так ярко ал Предстал мне в двух лучах, что, созерцая: «О Гелиос,[1522] как дивно!» – я сказал. 97 Как, меньшими и бо́льшими мерцая Огнями, Млечный Путь светло горит Меж остий мира, мудрецов смущая, 100 Так в недрах Марса, звездами увит, Из двух лучей, слагался знак священный, Который в рубежах квадрантов скрыт.[1523] 103 Здесь память победила разум бренный; Затем что этот крест сверкал Христом В красе, ни с чем на свете несравненной. 106 Но взявший крест свой, чтоб идти с Христом, Легко простит мне упущенья речи, Узрев тот блеск, пылающий Христом. 109 Сияньем озарив и ствол, и плечи, Стремились пламена,[1524] искрясь сильней При прохожденье мимо и при встрече. 112 Так, впрямь и вкривь, то тише, то быстрей, Подобные изменчивому рою, Крупинки тел, короче и длинней, 115 Плывут в луче, секущем полосою Иной раз мрак, который, хоронясь, Мы создаем искусною рукою. 118 Как струны арф и скрипок, единясь, Звенят отрадным гудом неразымно Для тех, кому невнятна в звуках связь, 121 Так в этих светах, блещущих взаимно, Песнь вдоль креста столь дивная текла, Что я пленился, хоть не понял гимна. 124 Что в нем звучит высокая хвала, Я понял, слыша: «Для побед воскресни», Но речь невнятной разуму была. 127 Я так влюбился в голос этой песни, И так он мной всецело овладел, Что я вовек не ведал уз чудесней. 130 Мне скажут, что язык мой слишком смел И я принизил очи заревые,[1525] В которых всем мечтам моим предел; 133 Но взвесивший, что в высоте живые Печати всех красот[1526] мощней царят, А там я к ним поздней воззрел впервые,[1527] 136 Простит мне то, в чем я виниться рад, Чтоб быть прощенным, и воздаст мне верой; Святой восторг отсюда не изъят,[1528] 139 Затем что он все чище с каждой сферой. ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ 1 Сочувственная воля, истекая Из праведной любви, как из дурной И ненасытной истекает злая, 4 Прервала пенье лиры неземной, Святые струны замиряя властно, Настроенные вышнею рукой. 7 Возможно ль о благом просить напрасно Те сущности, которые, чтоб дать Мне попросить, умолкли так согласно? 10 По праву должен без конца страдать Тот, кто, прельщен любовью недостойной, Такой любви отринул благодать. 13 Как в воздухе прозрачном ночи знойной Скользнет внезапный пламень иногда И заставляет дрогнуть взор спокойный, 16 Как будто передвинулась звезда, Хоть там, где вспыхнул он, светил держава Цела, а сам он гаснет без следа, – 19 Так от плеча, простершегося вправо, Скользнула вниз, вдоль по кресту нисшед, Одна из звезд,[1529] чья там блистает слава. 22 И с ленты не сорвался самоцвет, А в полосе луча промчался, светел, Как блещущий за алебастром свет; 25 Так дух Анхиза страстно сына встретил, В чем высшая нас уверяет муза, Когда его в Элисии заметил.[1530] 28 «О sanguis meus, о superinfusa Gratia Dei, sicut tibi cui Bis unquam coeli ianua reclusa?»[1531] 31 Так этот свет; внимательно к нему я Возвел глаза; потом возвел к моей Владычице, и здесь, и там ликуя: 34 Столь радостен был блеск ее очей, Что мне казалось – благодати Рая Моим очам нельзя познать полней. 37 А дух, мой слух и зренье услаждая, Продолжил речь, но смысл был так глубок, Что я ему внимал, не понимая. 40 Он не нарочно мглой себя облек, А поневоле: взлет его суждений Для цели смертных слишком был высок. 43 Когда же лук столь жарких изъявлений Был вновь ослаблен, так что речь во всем Сошла до нашей умственной мишени, 46 То сразу же я различил потом: «Благословен в трех лицах совершенный, Столь милостивый в семени моем!» 49 И дальше: «Голод[1532] давний и блаженный, Той книгою великой[1533] данный мне, Где белое и черное нетленны, 52 Ты в этом, сын мой, утолил огне, Где говорю я, и да восхвалится Та, что тебя возносит к вышине! 55 Ты веруешь, что мысль твоя стремится Ко мне из Первой[1534] так, как пять иль шесть Из единицы ведомой лучится;[1535] 58 И ты вопрос не хочешь произнесть, Кто я, который больше, чем вся стая Счастливых духов, рад тебя обресть. 61 Ты в этой вере прав: здесь обитая, Большой и малый в Зеркало[1536] глядят, Где видима заране мысль любая. 64 Но чтоб любви, которой я объят, Бессонно зрящий, и всегда взволнован, Как сладкой жаждой, не было преград, 67 Пусть голос твой, уверен, смел, нескован, Мне явит волю, явит мне вопрос, Которому ответ предуготован!» 70 Тогда я к Беатриче взор вознес; Та, слыша мысль, улыбкой отвечала, И, окрыленный, мой порыв возрос. 73 Я начал так: «Вы – те, кому предстало Всеравенство[1537]; меж чувством и умом Для вас неравновесия не стало; 76 Затем что в Солнце, светом и теплом Вас озарившем и согревшем, оба[1538] Вне всех подобий в равенстве своем. 79 Но мысль и воля[1539] в смертных жертвах гроба, Чему ясна причина вам одним, В своих крылах оперены особо; 82 И я, как смертный, свыкшийся с таким Неравенством, творю благодаренье За отчий праздник сердцем лишь своим.[1540] 85 Тебя молю я, в это украшенье Столь дивно вправленный топаз живой, По имени твоем уйми томленье». 88 «Листва моя, возлюбленная мной Сквозь ожиданье, – так он, мне в угоду, Ответ свой начал, – я был корень твой». 91 Потом сказал мне: «Тот, кто имя роду Дал твоему[1541] и кто сто с лишним лет Идет горой по первому обводу,[1542] 94 Мне сыном был, а им рожден твой дед;[1543] И надо, чтоб делами довременно Ты снял с него томительный запрет.[1544] 97 Флоренция, меж древних стен,[1545] бессменно Ей подающих время терц и нон,[1546] Жила спокойно, скромно и смиренно. 100 Не знала ни цепочек, ни корон, Ни юбок с вышивкой, и поясочки Не затмевали тех, кто обряжен. 103 Отцов, рождаясь, не страшили дочки, Затем что и приданое, и срок Не расходились дальше должной точки. 106 Пустых домов назвать никто не мог; И не было еще Сарданапала, Дабы явить, чем может стать чертог. 109 Еще не взнесся выше Монтемало Ваш Птичий Холм, который победил В подъеме и обгонит в час развала.[1547] 112 На Беллинчоне Берти[1548] пояс был Ременный с костью; с зеркалом прощалась Его жена, не наведя белил. 115 На Нерли и на Веккьо[1549] красовалась Простая кожа, без затей гола; Рука их жен кудели не гнушалась. 118 Счастливицы! Всех верная ждала Гробница,[1550] ни единая на ложе Для Франции[1551] забыта не была. 121 Одна над люлькой вторила все то же На языке, который молодым Отцам и матерям всего дороже. 124 Другая, пряжу прядучи, родным И домочадцам речь вела часами Про славу Трои, Фьезоле и Рим. 127 Казались бы Чангелла[1552] между нами Иль Сальтерелло[1553] чудом дивных стран, Как Квинций иль Корнелия – меж вами.[1554] 130 Такой прекрасный, мирный быт граждан, В гражданственном живущих единенье, Такой приют отрадный был мне дан 133 Марией,[1555] громко призванной в мученье; И, в древнем вашем храме восприят, Я Каччагвидой стал в святом крещенье. 136 Моронто – брат мне, Элизео – брат; Супругу взял я из долины Падо;[1556] Отсюда прозвище ее внучат.[1557] 139 Я следовал за кесарем Куррадо,[1558] И мне он пояс рыцарский надел, Затем что я служил ему, как надо. 142 С ним вышел я, как мститель злобных дел, На тех, кто вашей вотчиной законной, В чем пастыри[1559] повинны, завладел. 145 Там, племенем нечистым отрешенный,[1560] Покинул я навеки лживый мир, Где дух столь многих гибнет, загрязненный, 148 И после мук вкушаю этот мир». ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ 1 О скудная вельможность нашей крови! Тому, что гордость ты внушаешь нам Здесь, где упадок истинной любови, 4 Вовек не удивлюсь; затем что там, Где суетою дух не озабочен, Я мыслю – в небе, горд был этим сам. 7 Однако плащ твой быстро укорочен; И если, день за днем, не добавлять, Он ножницами времени подточен. 10 На «вы», как в Риме стали величать,[1561] Хоть их привычка остается зыбкой, Повел я речь, заговорив опять; 13 Что Беатриче, в стороне, улыбкой Отметила, как кашель у другой[1562] Был порожден Джиневриной ошибкой. 16 Я начал так: «Вы – прародитель мой; Вы мне даете говорить вам смело; Вы дали мне стать больше, чем собой. 19 Чрез столько устий радость овладела Моим умом, что он едва несет Ее в себе, счастливый до предела. 22 Скажите мне, мой корень и оплот, Кто были ваши предки и который В рожденье ваше помечался год; 25 Скажите, велика ль была в те поры Овчарня Иоаннова,[1563] и в ней Какие семьи привлекали взоры». 28 Как уголь на ветру горит сильней, Так этот светоч вспыхнул блеском ясным, Внимая речи ласковой моей; 31 И как для глаз он стал вдвойне прекрасным, Так он еще нежней заговорил, Но не наречьем нашим повсечасным: 34 «С тех пор, как «Ave» ангел возвестил По день, как матерью, теперь святою, Я, плод ее, подарен свету был, 37 Вот этот пламень, должной чередою, Пятьсот и пятьдесят и тридцать крат Зажегся вновь под Львиною пятою.[1564] 40 Дома, где род наш жил спокон, стоят В том месте, где у вас из лета в лето В последний округ всадники спешат.[1565] 43 О прадедах моих скажу лишь это; Откуда вышли и как звали их, Не подобает мне давать ответа. 46 От Марса к Иоанну,[1566] счет таких, Которые могли служить в дружине, Был пятой долей нынешних живых. 49 Но кровь, чей цвет от примеси Феггине, И Кампи, и Чертальдо помутнел,[1567] Была чиста в любом простолюдине. 52 О, лучше бы ваш город их имел Соседями и приходился рядом С Галлуццо и Треспьяно ваш предел,[1568] 55 Чем чтобы с вами жил пропахший смрадом Мужик из Агульоне[1569] иль иной Синьезец,[1570] взятку стерегущий взглядом! 58 Будь кесарю не мачехой дурной Народ, забывший все, – что в мире свято, А доброй к сыну матерью родной, 61 Из флорентийцев, что живут богато, Иной бы в Симифонти поспешил,[1571] Где дед его ходил с сумой когдато. 64 Досель бы графским Монтемурло[1572] слыл, Дом Черки оставался бы в Аконе,[1573] Род Буондельмонти бы на Греве[1574] жил.[1575] 67 Смешение людей в едином лоне Бывало городам всего вредней, Как от излишней пищи плоть в уроне. 70 Ослепший бык повалится скорей Слепого агнца; режет острой сталью Единый меч верней, чем пять мечей. 73 Взглянув на Луни и на Урбисалью,[1576] Судьба которых также в свой черед И Кьюзи поразит, и Синигалью,[1577] 76 Ты, слыша, как иной пресекся род, Мудреной в этом не найдешь загадки, Раз города, и те кончина ждет. 79 Все ваше носит смертные зачатки, Как вы, – хотя они и не видны В ином, что длится, ибо жизни кратки. 82 Как берега, вращаясь, твердь луны Скрывает и вскрывает неустанно, Так судьбы над Флоренцией властны. 85 Поэтому звучать не может странно О знатных флорентийцах речь моя, Хоть память их во времени туманна. 88 Филиппи, Уги, Гречи видел я, Орманни, Кателлини, Альберики – В их славе у порога забытья. 91 И видел я, как древни и велики Дель Арка и Саннелла рядом с ним, Ардинги, Сольданьери и Бостики.[1578] 94 Вблизи ворот, которые таким Нагружены предательством, что дале Корабль не может плавать невредим,[1579] 97 В то время Равиньяни обитали, Чтоб жизнь потом и графу Гвидо дать, И тем, что имя Беллинчоне взяли.[1580] 100 Умели Делла Пресса управлять; И уж не раз из Галигаев лучший Украсил позолотой рукоять.[1581] 103 Уже высок был белий столб,[1582] могучи Фифанти, те, кто кадкой устыжен,[1583] Саккетти, Галли, Джуоки и Баруччи. 106 Ствол, давший ветвь Кальфуччи,[1584] был силен; Род Арригуччи был средь привлеченных К правлению, род Сиции почтен. 109 В каком величье видел я сраженных Своей гордыней![1585] Как сиял для всех Блеск золотых шаров непосрамленных![1586] 112 Такими были праотцы и тех, Что всякий раз, как церковь опустеет, В капитуле жиреют всем на смех.[1587] 115 Нахальный род,[1588] который свирепеет Вслед беглецу, а чуть ему поднесть Кулак или кошель, – ягненком блеет, 118 Уже тогда все выше начал лезть; И огорчался Убертин Донато,[1589] Что с ними вздумал породниться тесть. 121 Уже и Капонсакко на Меркато Сошел из Фьезоле;[1590] и процвели И Джуда меж граждан, и Инфангато. 124 Невероятной истине внемли: Ворота в малый круг во время оно От Делла Пера имя повели.[1591] 127 Кто носит герб великого барона, Чью честь и память, празднуя Фому, Народ оберегает от урона, 130 Те рыцарством обязаны ему; Хоть ищет плотью от народной плоти Стать тот, кто этот щит замкнул в кайму.[1592] 133 Я Импортуни знал и Гвальтеротти; И не прибавься к ним иной сосед, То Борго жил бы не в такой заботе.[1593] 136 Дом, ставший корнем ваших горьких бед, Принесший вам погибель, в злобе правой, И разрушенье бестревожных лет, 139 Со всеми сродными почтен был славой. О Буондельмонте, ты в недобрый час Брак с ним отверг, приняв совет лукавый![1594] 142 Тот был бы весел, кто скорбит сейчас, Низринь тебя в глубь Эмы[1595] всемогущий, Когда ты в город ехал в первый раз. 145 Но ущербленный камень, мост блюдущий,[1596] Кровавой жертвы от Фьоренцы ждал, Когда кончался мир ее цветущий. 148 При них и им подобных я видал Фьоренцу жившей столь благоуставно, Что всякий повод к плачу отпадал; 151 При них народ господствовал так славно И мудро, что ни разу не была Лилея опрокинута стремглавно[1597] 154 И от вражды не делалась ала».[1598] ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ 1 Как вопросить Климену[1599], слыша новость, Его встревожившую, поспешил Тот, кто в отцах родил к сынам суровость,[1600] 4 Таков был я, и так я понят был И госпожой, и светочем священным, Который место для меня сменил. 7 И Беатриче: «Пусть не будет пленным Огонь желанья; дай ему пылать, Отбив его чеканом сокровенным; 10 Не потому, чтобы ты мог сказать Нам новое, а чтобы приучиться, Томясь по влаге, жажды не скрывать». 13 «Мой ствол, чей взлет в такие выси мчится, Что, как для смертных истина ясна, Что в треугольник двум тупым не влиться, 16 Так ты провидишь все, чему дана Возможность быть, взирая к Средоточью, В котором все совместны времена, – 19 Когда Вергилий мне являл воочью Утес, где дух становится здоров, И мертвый мир, объятый вечной ночью, 22 Немало я услышал тяжких слов О том, что в жизни для меня настанет, Хотя к ударам рока я готов; 25 Поэтому мои желанья манит Узнать судьбу моих грядущих лет; Стрела, которой ждешь, ленивей ранит». 28 Так я промолвил, вопрошая свет, Вещавший мне; так, повинуясь строго, Я Беатриче выполнил завет. 31 Не притчами, в которых вязло много Глупцов, когда еще не пал, заклан, Грехи людей принявший агнец бога,[1601] 34 Но ясной речью был ответ мне дан, Когда отец, пекущийся о чаде, Сказал, улыбкой скрыт и осиян: 37 «Возможное, вмещаясь в той тетради, Где ваше начерталось вещество, Отражено сполна в предвечном взгляде, 40 Не став необходимым оттого, Как и ладьи вниз по реке движенье От взгляда, отразившего его. 43 Оттуда[1602] так, как в уши входит пенье Органных труб, все то, что предстоит Тебе во времени, мне входит в зренье. 46 Как покидал Афины Ипполит, Злой мачехой гонимый в гневе яром,[1603] Так и тебе Флоренция велит.[1604] 49 Того хотят, о том хлопочут с жаром И нужного достигнут без труда Там, где Христос вседневным стал товаром.[1605] 52 Вину молва возложит, как всегда, На тех, кто пострадал; но злодеянья Изобличатся правдой в час суда. 55 Ты бросишь все, к чему твои желанья Стремились нежно; эту язву нам Всего быстрей наносит лук изгнанья. 58 Ты будешь знать, как горестен устам Чужой ломоть, как трудно на чужбине Сходить и восходить по ступеням. 61 Но худшим гнетом для тебя отныне Общенье будет глупых и дурных, Поверженных с тобою в той долине. 64 Безумство, злость, неблагодарность их Ты сам познаешь;[1606] но виски при этом Не у тебя зардеют,[1607] а у них. 67 Об их скотстве объявят перед светом Поступки их; и будет честь тебе, Что ты остался сам себе клевретом. 70 Твой первый дом в скитальческой судьбе Тебе создаст Ломбардец знаменитый,[1608] С орлом святым над лестницей в гербе. 73 Тебя укроет сень такой защиты, Что будут просьба и ответ у вас В порядке необычном перевиты. 76 С ним будет тот,[1609] кто принял в первый час Такую мощь от этого светила,[1610] Что блеском дел прославится не раз. 79 Его толпа еще не отличила По юности, и небо вечный свод Вокруг него лишь девять лет кружило; 82 Но раньше, чем Гасконец проведет Высокого Арриго,[1611] безразличье К богатствам и к невзгодам в нем сверкнет. 85 Так громко щедрое его величье Прославится, что даже у врагов Оно развяжет их косноязычье. 88 Отдайся смело под его покров; Через него судьба преобразится Для многих богачей и бедняков. 91 В твоем уме о нем да впечатлится, Но ты молчи…» – и тут он мне открыл Невероятное для очевидца. 94 Затем добавил: «Сын, я пояснил То, что тебе сказали; козни эти Круговорот недальний затаил. 97 Но не завидуй тем, кто ставил сети: Давно отмщенной будет их вина, А ты, как прежде, будешь жить на свете». 100 Когда я понял, что завершена Речь праведной души и что основа, Которую я подал, заткана, 103 Я произнес, как тот, кто от другого Совета ждет, наставника ценя, В желаньях, в мыслях и в любви прямого: 106 «Я вижу, мой отец, как на меня Несется время, чтоб я в прах свалился, Раз я пойду, себя не охраня. 109 Пора, чтоб я вперед вооружился, Дабы, расставшись с краем, всех милей, Я и других чрез песни не лишился. 112 В безмерно горьком мире, и, поздней, Вдоль круч, с которых я, из рощ услады, Взнесен очами госпожи моей, 115 И в небе, от лампады до лампады, Я многое узнал, чего вкусить Не все, меня услышав, будут рады; 118 А если с правдой побоюсь дружить, То средь людей, которые бы звали Наш век старинным, вряд ли буду жить». 121 Свет, чьи лучи улыбку облекали Мной найденного клада, засверкал, Как отблеск солнца в золотом зерцале, 124 И молвил так: «Кто совесть запятнал Своей или чужой постыдной славой, Тот слов твоих почувствует ужал. 127 И всетаки, без всякой лжи лукавой, Все, что ты видел, объяви сполна, И пусть скребется, если кто лишавый! 130 Пусть речь твоя покажется дурна На первый вкус и ляжет горьким гнетом, – Усвоясь, жизнь оздоровит она. 133 Твой крик пройдет, как ветер по высотам, Клоня сильней большие дерева; И это будет для тебя почетом. 136 Тебе явили в царстве торжества, И на горе, и в пропасти томленья Лишь души тех, о ком живет молва, – 139 Затем что ум не чует утоленья И плохо верит, если перед ним Пример, чей корень скрыт во тьме забвенья, 142 Иль если довод не воочью зрим». ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ 1 Замкнулось вновь блаженное зерцало В безмолвной думе, а моя жила Во мне и горечь сладостью смягчала; 4 И женщина, что ввысь меня вела, Сказала: «Думай о другом; не я ли Вблизи того, кто оградит от зла?» 7 Я взгляд возвел к той, чьи уста звучали Так ласково; как нежен был в тот миг Священный взор, – молчат мои скрижали. 10 Бессилен здесь не только мой язык: Чтоб память совершила возвращенье В тот мир, ей высший нужен проводник. 13 Одно могу сказать про то мгновенье, – Что я, взирая на нее, вкушал От всех иных страстей освобожденье, 16 Пока на Беатриче упадал Луч Вечной Радости и, в ней сияя, Меня вторичным светом утолял. 19 «Оборотись и слушай, – побеждая Меня улыбкой, молвила она. – В моих глазах – не вся отрада Рая». 22 Как здесь в обличьях иногда видна Бывает сила чувства, столь большого, Что вся душа ему подчинена, 25 Так я в пыланье светоча святого Познал, к нему глазами обращен, Что он еще сказать мне хочет слово. 28 «На пятом из порогов,[1612] – начал он, – Ствола, который, черпля жизнь в вершине, Всегда – в плодах и листьем осенен, 31 Ликуют духи, чьи в земной долине Столь громкой славой прогремели дни, Что муз обогащали бы доныне. 34 И ты на плечи крестные взгляни: Кого я назову – в их мгле чудесной Мелькнут, как в туче быстрые огни». 37 И видел я: зарница глубью крестной, Едва был назван Иисус[1613], прошла; И с действием казалась речь совместной. 40 На имя Маккавея[1614] проплыла Другая, как бы коло огневое, – Бичом восторга взвитая юла. 43 Великий Карл с Орландом, эти двое Мой взгляд умчали за собой вослед, Как сокола паренье боевое. 46 Потом Гульельм и Реноард[1615] свой свет Перед моими пронесли глазами, Руберт Гвискар и герцог Готофред.[1616] 49 Затем, смешавшись с прочими огнями, Дух, мне вещавший, дал постигнуть мне, Как в небе он искусен меж певцами. 52 Я обернулся к правой стороне, Чтобы мой долг увидеть в Беатриче, В словах иль знаках явленный вовне; 55 Столь чисто было глаз ее величье, Столь радостно, что блеском превзошло И прежние, и новое обличье. 58 Как в том, что дух все более светло Ликует, совершив благое дело, Мы видим знак, что рвенье возросло, 61 Так я постиг, что большего предела Совместно с небом огибаю круг, – Столь дивно Беатриче просветлела. 64 И как меняют цвет почти что вдруг У белолицей женщины ланиты, Когда стыдливый с них сбежит испуг, 67 Так хлынула во взор мой, к ней раскрытый, Шестой звезды благая белизна, Куда я погрузился, с нею слитый. 70 Была планета Диева[1617] полна Искрящейся любовью,[1618] чьи частицы Являли взору наши письмена. 73 И как, поднявшись над прибрежьем, птицы, Обрадованы корму, создают И круглые, и всякие станицы, 76 Так стаи душ, что в тех огнях живут, Летая, пели и в своем движенье То D, то I, то L сплетали тут. 79 Сперва они кружили в песнопенье; Затем, явив одну из букв очам, Молчали мигдругой в оцепененье. 82 Ты, Пегасея[1619], что даришь умам Величие во времени далеком, А те – тобой – краям и городам, 85 Пролей мне свет, чтоб, виденные оком, Я мог их начертанья воссоздать! Дай мощь твою коротким этим строкам! 88 И гласных, и согласных семью пять Предстало мне; и зренье отмечало За частью часть, чтоб в целом сочетать. 91 «DILIGITE JUSTITIAM», – сначала Глагол и имя шли в скрижали той; «QUI JUDICATIS TERRAM»,[1620] – речь кончало. 94 И в М последнего из слов их строй Пребыл недвижным, и Юпитер мнился Серебряным с насечкой золотой. 97 И видел я, как новый сонм спустился К вершине М, на ней почить готов, И пел того, к чьей истине стремился. 100 Вдруг, как удар промеж горящих дров Рождает вихрь искрящегося пыла, – Предмет гаданья для иных глупцов, – 103 Так и оттуда стая светов взмыла И вверх к различным высотам всплыла, Как Солнце, их возжегшее, судило. 106 Когда она недвижно замерла, – В той огненной насечке, ясно зримы, Возникли шея и глава орла. 109 Так чертит мастер неруководимый; Он руководит, он дает простор Той силе, коей гнезда сотворимы. 112 Блаженный сонм, который до сих пор В лилее М[1621] не ведал превращений, Слегка содвигшись, завершил узор.[1622] 115 О чистый светоч![1623] Свет каких камений, И скольких, мне явил, что правый суд Нисходит с неба, в чьей ты блещешь сени! 118 Молю тот Разум, где исток берут Твой бег и мощь, взглянуть на клубы дыма, Которые твой ясный луч крадут,[1624] 121 И вновь разгневаться неукротимо На то, что местом торга сделан храм, Из крови мук возникший нерушимо. 124 О рать небес, представшая мне там, Молись за тех, кто бродит, обаянный Дурным примером, по кривым путям! 127 В былом сражались, меч подъемля бранный; Теперь – отнять стараясь гденибудь Хлеб, любящим Отцом всем людям данный.[1625] 130 Но ты, строчащий, чтобы зачеркнуть,[1626] Знай: Петр и Павел, вертоград спасая, Тобой губимый, умерли, но суть. 133 Ты, впрочем, скажешь: «У меня такая Любовь к тому, кто одиноко жил И пострадал, от плясок умирая, 136 Что и Ловца и Павла я забыл».[1627] ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 1 Парил на крыльях, широко раскрытых, Прекрасный образ и в себе вмещал Веселье душ, в отрадном frui[1628] слитых. 4 И каждая была как мелкий лал, В котором словно солнце отражалось, И жгучий луч в глаза мне ударял. 7 И то, что мне изобразить осталось, Ни в звуках речи, ни в чертах чернил, Ни в снах мечты вовек не воплощалось. 10 Я видел и внимал, как говорил Орлиный клюв, и «я» и «мой» звучало, Где смысл реченья «мы» и «наш» сулил. 13 «За правосудье, – молвил он сначала, – И праведность я к славе вознесен, Для коей одного желанья мало. 16 Я памятен среди земных племен, Но мой пример в народах извращенных, Хоть и хвалим, не ставится в закон». 19 Так пышет в груде углей раскаленных Единый жар, как были здесь слиты В единый голос сонмы просветленных. 22 И я тогда: «О вечные цветы Нетленной неги, чьи благоуханья Слились в одно, отрадны и чисты, 25 Повейте мне, чтоб я не знал алканья, Которым я терзаюсь так давно, Не обретая на земле питанья! 28 Хоть в небесах другой стране[1629] дано Служить зерцалом правосудью бога, Оно от вашей не заслонено. 31 Вы знаете, как я вам внемлю строго, И знаете сомненье[1630], тайных мук Моей душе принесшее столь много». 34 Как сокол, если снять с него клобук, Вращает голову, и бьет крылами, И горд собой, готовый взвиться вдруг, 37 Так этот образ, сотканный хвалами Щедротам божьим, мне себя явил И песни пел, неведомые нами. 40 Потом он начал: «Тот, кто очертил Окружность мира, где и сокровенный, И явный строй вещей распределил, 43 Не мог запечатлеть во всей вселенной Свой разум так, чтобы ее предел Он не превысил в мере несравненной. 46 Тот первый горделивец, кто владел Всем, что доступно созданному было, Не выждав озаренья, пал, незрел.[1631] 49 И всякому, чья маломощней сила, То Благо охватить возбранено, Что, без границ, само себе – мерило. 52 Зато и наше зренье, – а оно Лишь как единый из лучей причастно Уму, которым все озарено, – 55 Не может быть само настолько властно, Чтобы его Исток во много раз Не видел дальше, чем рассудку ясно. 58 И разум, данный каждому из вас, В смысл вечной справедливости вникая, Есть как бы в море устремленный глаз: 61 Он видит дно, с прибрежия взирая, А над пучиной тщетно мечет взгляд; Меж тем дно есть, но застит глубь морская. 64 Свет – только тот, который восприят От вечной Ясности; а все иное – Мрак, мгла телесная, телесный яд. 67 Отныне правосудие живое Тебе раскрыл я и вопрос пресек, Не оставлявший мысль твою в покое. 70 Ты говорил: «Родится человек Над брегом Инда; о Христе ни слова Он не слыхал и не читал вовек; 73 Он был всегда, как ни судить сурово, В делах и в мыслях к правде обращен, Ни в жизни, ни в речах не делал злого. 76 И умер он без веры, не крещен. И вот, он проклят; но чего же ради? Чем он виновен, что не верил он?» 79 Кто ты, чтобы, в судейском сев наряде, За много сотен миль решать дела, Когда твой глаз не видит дальше пяди? 82 Все те, чья мысль со мной бы вглубь пошла, Когда бы вас Писанье не смиряло, Сомненьям бы не ведали числа. 85 О стадо смертных, мыслящее вяло! Благая воля изначала дней От благости своей не отступала. 88 То – справедливо, что созвучно с ней; Не привлекаясь бренными благами, Она творит их из своих лучей». 91 Как аист, накормив птенцов, кругами, Витая над гнездом, чертит простор, А выкормок следит за ним глазами, 94 Так воспарял, – и так вздымал я взор, – Передо мною образ благодатный, Чьи крылья подвигал такой собор. 97 Он пел, кружа, и молвил: «Как невнятны Тебе мои слова, так искони Пути господни смертным непонятны». 100 Когда недвижны сделались огни Святого духа, все как знак чудесный, Принесший Риму честь в былые дни,[1632] 103 Он начал вновь: «Сюда, в чертог небесный, Не восходил не веривший в Христа Ни ранее, ни позже казни крестной. 106 Но много и таких зовет Христа, Кто в день возмездья будет меньше prope[1633] К нему, чем те, кто не знавал Христа. 109 Они родят презренье в эфиопе, Когда кто здесь окажется, кто – там, Навек в богатом или в нищем скопе.[1634] 112 Что скажут персы вашим королям, Когда листы раскроются для взора, Где полностью записан весь их срам? 115 Там узрят, средь Альбертова позора, Как пражская земля разорена, О чем перо уже помянет скоро;[1635] 118 Там узрят, как над Сеной жизнь скудна, С тех пор как стал поддельщиком металла Тот, кто умрет от шкуры кабана;[1636] 121 Там узрят, как гордыня обуяла Шотландца с англичанином,[1637] как им В своих границах слишком тесно стало. 124 Увидят, как верны грехам земным Испанец и богемец,[1638] без печали Мирящийся с бесславием своим; 127 Увидят, что заслуги засчитали Хромцу ерусалимскому чрез I, А через М – обратное вписали;[1639] 130 Увидят, как живет в скупой грязи Тот, кто над жгучим островом вельможен,[1640] Где для Анхиза был конец стези;[1641] 133 И чтобы показать, как он ничтожен, О нем напишут с сокращеньем слов, Где многий смысл в немного строчек вложен. 136 И обличатся в мерзости грехов И брат, и дядя,[1642] топчущие рьяно Честь прадедов и славу двух венцов. 139 И не украсят царственного сана Норвежец, португалец или серб, Завистник веницейского чекана.[1643] 142 Блаженна Венгрия, когда ущерб Свой возместит![1644] И счастлива Наварра, Когда горами оградит свой герб![1645] 145 Ее остерегают от удара Стон Никосии, Фамагосты крик, Которых лютый зверь терзает яро, 148 С другими неразлучный ни на миг».[1646] ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ 1 Как только тот, чьим блеском мир сияет, Покинет нами зримый небосклон, И ясный день повсюду угасает, 4 Твердь, чьи высоты озарял лишь он, Вновь проступает в яркости мгновенной Несчетных светов, где один зажжен.[1647] 7 Я вспомнил этот стройный чин вселенной, Чуть символ мира и его вождей Сомкнул, смолкая, клюв благословенный; 10 Затем что весь собор живых огней, Лучистей вспыхнув, начал песнопенья, Утраченные памятью моей. 13 О жар любви в улыбке озаренья, Как ты пылал в свирельном звоне их, Где лишь святые дышат помышленья! 16 Когда в лучах камений дорогих, В шестое пламя[1648] вправленных глубоко, Звук ангельского пения затих, 19 Я вдруг услышал словно шум потока, Который, светлый, падает с высот, Являя мощность своего истока. 22 Как звук свое обличие берет У шейки цитры или как дыханью Отверстье дудки звонкость придает, 25 Так, срока не давая ожиданью, Тот шум, вздымаясь вверх, пророкотал, Как полостью, орлиною гортанью. 28 Там в голос превратясь, он зазвучал Из клюва, как слова, которых знойно Желало сердце, где я их вписал. 31 «Та часть моя, что видит[1649] и спокойно Выносит солнце у орлов земли, – Сказал он, – взоров пристальных достойна. 34 Среди огней, что образ мой сплели, Те, чьим сверканьем глаз мой благороден, Всех остальных во славе превзошли. 37 Тот, посредине, что с зеницей сходен, Святого духа некогда воспел И нес, из веси в весь, ковчег господень.[1650] 40 Теперь он знает, сколь благой удел Он выбрал, дух обрекши славословью, Затем что награжден по мере дел. 43 Из тех пяти, что изогнулись бровью, Тот, что над клювом ближе помещен, По мертвом сыне скорбь утешил вдовью. 46 Теперь он знает, сколь велик урон – Нейти с Христом, и негой несказанной, И участью обратной искушен.[1651] 49 А тот, кто в этой дужке, мной названной, Вверх по изгибу продолжает ряд, Отсрочил смерть[1652] молитвой покаянной. 52 Теперь он знает, что навеки свят Предвечный суд, хотя мольбы порою Сегодняшнее завтрашним творят. 55 А тот, за ним, с законами и мною, Стремясь к добру, хоть это к злу вело, Стал греком, пастыря даря землею.[1653] 58 Теперь он знает, как родивший зло Похвальным делом – принят в сонм счастливый, Хоть дело это гибель в мир внесло. 61 Тот, дальше книзу, свет благочестивый Гульельмом был,[1654] чей край по нем скорбит, Скорбя, что Карл и Федериго живы.[1655] 64 Теперь он знает то, как небо чтит Благих царей, и блеск его богатый Об этом ярко взору говорит. 67 Кто бы поверил, дольной тьмой объятый, Что здесь священных светов торжество Рифейтроянец[1656] разделил как пятый? 70 Теперь он знает многое, чего Вам не постигнуть в милости бездонной, Неисследимой даже для него». 73 Как жаворонок, в воздух вознесенный, Песнь пропоет и замолчит опять, Последнею отрадой утоленный,[1657] 76 Такою мне представилась печать Той изначальной воли, чьи веленья Всему, что стало, повелели стать. 79 И хоть я был для моего сомненья Лишь как стекло, прикрывшее цвета, Оно не потерпело промедленья, 82 Но: «Как же это?» – сквозь мои уста Толкнуло грузно всем своим напором; И вспыхнула сверканий красота. 85 Тогда, еще светлей пылая взором, Ответил мне благословенный стяг, Чтоб разум мой не мучился раздором: 88 «Хоть ты уверовал, что это так, Как я сказал, – твой ум не постигает; И ты, поверив, не рассеял мрак. 91 Ты – словно тот, кто имя вещи знает, Но сущности ее не разберет, Пока другой помочь не пожелает. 94 Regnum coelorum[1658] принужденья ждет Живой надежды и любви возжженной, Чтобы господней воли пал оплот. 97 Она, – не как боец, бойцом сраженный, – Сама желает быть побеждена, И побеждает благость побежденной. 100 Тебе в брови и первая странна, И пятая душа, и то, что в стане Бесплотных сил горят их пламена. 103 Из тел они взошли как христиане, Не как язычники, в пронзенье ног[1659] Тот как в былое веря, тот – заране. 106 Одна из Ада, где замкнут порог Раскаянью, в свой прах опять вступила; И тем воздал живой надежде бог, 109 Живой надежде, где черпалась сила Мольбы к творцу – воззвать ее в свой час, Чтоб волю в ней подвигнуть можно было. 112 Тот славный дух, о ком идет рассказ, На краткий срок в свое вернувшись тело, Уверовал в того, кто многих спас; 115 И, веруя, зажегся столь всецело Огнем любви, что в новый смертный миг Был удостоен этого предела.[1660] 118 Другой, по благодати, чей родник Бьет из таких глубин, что взор творенья До первых струй ни разу не проник, 121 Направил к правде все свои стремленья; И бог, за светом свет, ему открыл Грядущую годину искупленья; 124 И с той поры он в этой вере жил, И не терпел языческого смрада, И племя развращенное корил.[1661] 127 Он крестник был трех жен господня сада, Идущих рядом с правым колесом, – Сверх десяти столетий до обряда.[1662] 130 О предопределение, в каком Скрыт недре корень твой от глаз туманных, Не видящих причину целиком! 133 Ваш суд есть слово судей самозванных, О смертные! И мы, хоть бога зрим, Еще не знаем сами всех избранных. 136 Мы счастливы неведеньем своим; Всех наших благ превыше это благо Что то, что хочет бог, и мы хотим». 139 Так милостью божественного стяга, Чтоб озарить мой близорукий взгляд, Мне подалась целительная влага. 142 И как певцу искусный лирник в лад Бряцает на струнах и то, что спето, Звучит приятнее во много крат, 145 Так, речи вторя, – ясно помню это, – Подобно двум мигающим очам, – Я видел, – оба благодатных света 148 Мерцали огоньками в лад словам. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Уже моя властительница снова Мои глаза и дух мой призвала, И я отторгся от всего иного. 4 Она, не улыбаясь, начала: «Ты от моей улыбки, как Семела[1663], Распался бы, распавшись, как зола. 7 Моя краса, которая светлела На ступенях чертогов божества, Как видел ты, к пределу от предела, 10 Когда б не умерялась, такова, Что, смертный, испытав ее сверканье, Ты рухнул бы, как под грозой листва. 13 Мы на седьмое вознеслись сиянье,[1664] Которое сейчас под жгучим Львом[1665] С ним излучает слитное влиянье. 16 Вослед глазам последовав умом, Преобрази их в зеркала видений, Встающих в этом зеркале большом».[1666] 19 Кто ведал бы, как много упоений В лице блаженном почерпал мой взгляд, Когда был призван к смене впечатлений, 22 Тот понял бы, как я свершить был рад Все то, что госпожа повелевала, Когда б он взвесил чаши двух услад.[1667] 25 В глубинах мирокружного кристалла,[1668] Который как властитель[1669] наречен, Под чьей державой мертвым зло лежало, 28 Всю словно золото, где луч зажжен, Я лестницу увидел восходящей Так высоко, что взор мой был сражен. 31 И рать огней увидел нисходящей По ступеням, и мнилось – так светла Вся яркость славы, в небесах горящей. 34 И как грачи, едва заря взошла, Обычай свой блюдя, гурьбой толкутся, Чтоб отогреть застывшие крыла, 37 Потом летят, одни – чтоб не вернуться, Другие – чтоб вернуться поскорей, А третьи все над тем же местом вьются, 40 Так поступал и этот блеск огней, К нам с высоты стремившийся согласно, – Столкнувшись на одной из ступеней. 43 И к нам ближайший просиял так ясно, Что в мыслях я промолвил: «Этот знак Твоей любви понятен мне безгласно». 46 Но мне внушавшая, когда и как Сказать и промолчать, тиха; желанье Я подавляю, и мой выбор благ. 49 Она увидела мое молчанье, Его провидя в видящем с высот, И мне сказала: «Утоли алканье!» 52 Я начал: «По заслугам я не тот, Чья речь достойна твоего ответа. Но, ради той, кто мне просить дает, 55 О жизнь блаженная, ты, что одета Своею радостью, скажи, зачем Ты стала близ меня в сиянье света; 58 И почему здесь в этой тверди нем Напев, который в нижних кругах Рая Звучит так сладко, несравним ни с чем». 61 «Твой слух, как зренье, смертен, – отвечая, Он молвил. – Потому здесь не поют, Не улыбнулась путница святая.[1670] 64 Я, снизошел, остановился тут, Чтоб радостным почтить тебя приветом Слов и лучей, в которых я замкнут. 67 Не большая любовь сказалась в этом: Такой и большей пламенеют там, Вверху,[1671] как зримо по горящим светам; 70 Но высшая любовь, внушая нам Служить тому, кто правит всей вселенной, Здесь назначает, как ты видишь сам». 73 «Мне ясно, – я сказал, – о свет священный, Что вольною любовью побужден Ваш сонм идти за Волей сокровенной; 76 Но есть одно, чем разум мой смущен: Зачем лишь ты средь стольких оказался К беседе этой предопределен». 79 Еще последний слог мой не сказался, Когда, средину претворяя в ось, Огонь, как быстрый жернов, завращался, 82 И из любви, в нем скрытой, раздалось: «Свет благодати на меня стремится, Меня облекший пронизав насквозь, 85 И, с ним соединясь, мой взор острится, И сам я так взнесен, что мне видна Прасущность, из которой он струится. 88 Так пламенная радость мне дана, И этой зоркости моей чудесной Воспламененность риз моих равна. 91 Но ни светлейший дух в стране небесной, Ни самый вникший в бога серафим Не скажут тайны, и для них безвестной. 94 Так глубоко ответ словам твоим Скрыт в пропасти предвечного решенья, Что взору сотворенному незрим. 97 И ты, вернувшись в смертные селенья, Скажи об этом, ибо там спешат К ее краям тропою дерзновенья. 100 Ум, здесь светящий, там укутан в чад; Суди, как на земле в нем сила бренна, Раз он бессилен, даже небом взят». 103 Свои вопросы я пресек мгновенно, Стесняемый преградой этих слов, И лишь – кто он,[1672] спросил его смиренно. 106 «Есть кряж меж италийских берегов, К твоей отчизне близкий и намного Взнесенный выше грохота громов; 109 Он Катрию отводит в виде рога, Сходящего к стенам монастыря, Который служит почитанью бога».[1673] 112 Так в третий раз он начал, говоря. «Там, – продолжал он мне, благоречивый, – Я так окреп, господень труд творя, 115 Кто, добавляя к пище сок оливы, Легко сносил жары и холода, Духовным созерцанием счастливый. 118 Скит этот небу приносил всегда Обильный плод; но истощился рано, И ныне близок день его стыда. 121 В той киновии был я Пьер Дамьяно, И грешный Петр был у Адрийских вод, Где инокам – Мариин дом охрана.[1674] 124 Когда был близок дней моих исход, Мне дали шляпу[1675] противу желанья, Ту, что от худа к худшему идет. 127 Ходили Кифа и Сосуд Избранья[1676] Святого духа, каждый бос и худ, Питаясь здесь и там от подаянья. 130 А нынешних святителей ведут Под локотки, да спереди вожатый, – Так тяжелы! – да сзади хвост несут. 133 И конь и всадник мантией объяты, – Под той же шкурой целых два скота. Терпенье божье, скоро ль час расплаты!» 136 При этом слове блески, больше ста, По ступеням, кружась, спускаться стали, И, что ни круг, росла их красота. 139 Потом они умолкшего обстали И столь могучий испустили крик, Что здесь[1677] подобье сыщется едва ли. 142 Слов я не понял; так был гром велик. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 Объят смятеньем, я направил взоры К моей вожатой, как малыш спешит Всегда туда, где верной ждет опоры; 4 Она, как мать, чей голос так звучит, Что мальчик, побледневший от волненья, Опять веселый обретает вид, 7 Сказала мне: «Здесь горние селенья. Иль ты забыл, что свят в них каждый миг И все исходит от благого рвенья? 10 Суди, как был бы искажен твой лик Моей улыбкой и поющим хором, Когда тебя так потрясает крик, 13 Непонятый тобою, но в котором Предвозвещалось мщенье, чей приход Ты сам еще увидишь смертным взором. 16 Небесный меч ни медленно сечет, Ни быстро, разве лишь в глазах иного, Кто с нетерпеньем иль со страхом ждет. 19 Теперь ты должен обернуться снова; Немало душ, одну другой славней Увидишь ты, мое исполнив слово». 22 Я оглянулся, повинуясь ей; И мне станица мелких сфер предстала, Украшенных взаимностью лучей. 25 Я был как тот, кто притупляет жало Желания и заявить о нем Не смеет, чтоб оно не раздражало. 28 Но подплыла всех налитей огнем И самая большая из жемчужин Унять меня в томлении моем. 31 В ней я услышал[1678]: «Будь твой взор так дружен, Как мой, с любовью, жгущей нашу грудь, Вопрос твой был бы в слове обнаружен. 34 Но я, чтоб не замедлен был твой путь К высокой цели, не таю ответа, Хоть ты уста боишься разомкнуть. 37 Вершину над Касино[1679] в оны лета Толпами посещал в урочный час Обманутый народ,[1680] противник света. 40 Я – тот, кто там поведал в первый раз, Как назывался миру ниспославший Ту истину, что так возносит нас; 43 По милости, мне свыше воссиявшей, Я всю округу вырвал из тенет Нечистой веры, землю соблазнявшей. 46 Все эти светы были, в свой черед, Мужи, чьи взоры созерцали бога, А дух рождал священный цвет и плод. 49 Макарий здесь, здесь Ромоальд,[1681] здесь много Моих собратий, чей в монастырях Был замкнут шаг и сердце было строго». 52 И я ему: «Приязнь, в твоих словах Мне явленная, и благоволенье, Мной видимое в ваших пламенах, 55 Моей души раскрыли дерзновенье, Как розу раскрывает солнца зной, Когда всего сильней ее цветенье. 58 И я прошу; и ты, отец, открой, Могу ли я пребыть в отрадной вере, Что я узрю воочью образ твой». 61 И он мне: «Брат, свершится в высшей сфере[1682] Все то, чего душа твоя ждала; Там все, и я, блаженны в полной мере. 64 Там свершена, всецела и зрела Надежда всех; там вечно пребывает Любая часть недвижной, как была. 67 То – шар вне места, остий он не знает; И наша лестница, устремлена В его предел, от взора улетает. 70 Пред патриархом Яковом она Дотуда от земли взнеслась когдато, Когда предстала, ангелов полна.[1683] 73 Теперь к ее ступеням не подъята Ничья стопа, и для сынов земли Писать устав мой – лишь бумаги трата. 76 Те стены, где монастыри цвели, – Теперь вертепы; превратились рясы В дурной мукой набитые кули. 79 Не так враждебна лихва без прикрасы Всевышнему, как в нынешние дни Столь милые монашеству запасы. 82 Все, чем владеет церковь, – искони Наследье нищих, страждущих сугубо, А не родни[1684] иль якобы родни. 85 Столь многое земному телу любо, Что раньше минет чистых дум пора, Чем первый желудь вырастет у дуба. 88 Петр[1685] начинал без злата и сребра, А я – молитвой и постом упорным; Франциск смиреньем звал на путь добра. 91 И ты, сравнив с почином благотворным Тот путь, каким преемники идут, Увидишь сам, что белый цвет стал черным. 94 Хоть в том, как Иордан был разомкнут И вскрылось море, промысл объявился Чудесней, чем была бы помощь тут». 97 Так он сказал и вновь соединился С собором, и собор слился тесней; Затем, как вихорь, разом кверху взвился. 100 Моя владычица вдоль ступеней Меня взметнула легким мановеньем, Всесильным над природою моей; 103 Ни вверх, ни вниз естественным движеньем Так быстро не спешат в земном краю, Чтобы с моим сравниться окрыленьем. 106 Читатель, верь, – как то, что я таю Надежду вновь обресть усладу Рая, Которой ради, каясь, перси бью, – 109 Ты не быстрей обжег бы, вынимая, Свой перст в огне, чем предо мной возник Знак, первый вслед Тельцу,[1686] меня вбирая. 112 О пламенные звезды, о родник Высоких сил, который возлелеял Мой гений, будь он мал или велик![1687] 115 Всходил меж вас, меж вас к закату реял Отец всего, в чем смертна жизнь, когда Тосканский воздух на меня повеял;[1688] 118 И мне, чудесно взятому туда, Где ходит свод небесный, вас кружащий,[1689] Быть в вашем царстве выпала чреда. 121 К вам устремляю ныне вздох молящий, Дабы мой дух окреп во много крат И трудный шаг[1690] свершил, его манящий. 124 «Так близок ты к последней из отрад, – Сказала Беатриче мне, – что строгий Быть должен у тебя и чистый взгляд. 127 Пока ты не вступил в ее чертоги, Вниз посмотри, – какой обширный мир Я под твои уже повергла ноги; 130 Чтоб уготовать в сердце светлый пир Победным толпам,[1691] что сюда несутся С веселием сквозь круговой эфир». 133 Тогда я дал моим глазам вернуться Сквозь семь небес – и видел этот шар[1692] Столь жалким, что не мог не усмехнуться; 136 И чем в душе он меньший будит жар, Тем лучше; и к другому обращенный Бесспорнейшую мудрость принял в дар. 139 Я дочь Латоны[1693] видел озаренной Без тех теней,[1694] чье прежде естество Искал в среде густой и разреженной. 142 Я вынес облик сына твоего, О Гиперион[1695]; и постиг круженье, О Майя и Диона,[1696] близ него. 145 Я созерцал смягченное горенье Юпитера меж сыном и отцом;[1697] Мне уяснилось их перемещенье. 148 И быстроту свою, и свой объем Все семеро представили мне сами, И как у всех – уединенный дом. 151 С нетленными вращаясь Близнецами, Клочок, родящий в нас такой раздор, Я видел весь, с горами и реками.[1698] 154 Потом опять взглянул в прекрасный взор. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 Как птица, посреди листвы любимой, Ночь проведя в гнезде птенцов родных, Когда весь мир от нас укрыт, незримый, 4 Чтобы увидеть милый облик их И корм найти, которым сыты детки, – А ей отраден тяжкий труд для них, – 7 Час упреждая на открытой ветке, Ждет, чтобы солнцем озарилась мгла, И смотрит вдаль, чуть свет забрезжит редкий, – 10 Так Беатриче, выпрямясь, ждала И к выси, под которой утомленный Шаг солнца медлит,[1699] очи возвела. 13 Ее увидя страстно поглощенной, Я уподобился тому, кто ждет, До времени надеждой утоленный. 16 Но только был недолог переход От ожиданья до того мгновенья, Как просветляться начал небосвод. 19 И Беатриче мне: «Вот ополченья Христовой славы, вот где собран он, Весь плод небесного круговращенья!» 22 Казался лик ее воспламенен, И так сиял восторг очей прекрасных, Что я пройти в безмолвье принужден. 25 Как Тривия в час полнолуний ясных Красуется улыбкою своей Средь вечных нимф, на небе неугасных,[1700] 28 Так, видел я, над тысячей огней Одно царило Солнце,[1701] в них сияя, Как наше – в горних светочах ночей.[1702] 31 В живом свеченье Сущность световая, Сквозя, струила огнезарный дождь Таких лучей, что я не снес, взирая. 34 О Беатриче, милый, нежный вождь! Она сказала мне: «Тебя сразила Ничем неотражаемая мощь; 37 Затем что здесь – та Мудрость, здесь – та Сила, Которая, вослед векам тоски, Пути меж небом и землей открыла». 40 Как пламень, ширясь, тучу рвет в куски, Когда ему в ее пределах тесно, И падает, природе вопреки, 43 Так, этим пиршеством взращен чудесно, Мой дух прорвался из своей брони, И что с ним было, памяти безвестно. 46 «Открой глаза и на меня взгляни! Им было столько явлено, что властны Мою улыбку выдержать они». 49 Я был как тот, кто, пробудясь, неясный Припоминает образ, но, забыв, На память возлагает труд напрасный, – 52 Когда я услыхал ее призыв, Такой пленительный, что на скрижали Минувшего он будет вечно жив. 55 Хотя б мне в помощь все уста звучали, Которым млека сладкого родник Полимния и сестры[1703] изливали, 58 Я тысячной бы доли не достиг, Священную улыбку воспевая, Которой воссиял священный лик; 61 И потому в изображенье Рая Святая повесть скачет иногда, Как бы разрывы на пути встречая. 64 Но столь велики тягости труда, И так для смертных плеч тяжка натуга, Что им подчас и дрогнуть – нет стыда. 67 Морской простор не для худого струга – Тот, что отважным кораблем вспенен, Не для пловца, чья мысль полна испуга.[1704] 70 «Зачем ты так в мое лицо влюблен, Что красотою сада неземного, В лучах Христа расцветшей, не прельщен? 73 Там – роза[1705], где божественное Слово Прияло плоть; там веянье лилей,[1706] Чей запах звал искать пути благого». 76 Так Беатриче; повинуясь ей, Я обратился сызнова к сраженью, Нелегкому для немощных очей. 79 Как под лучом, который явлен зренью В разрыве туч, порой цветочный луг Сиял моим глазам, укрытым тенью, 82 Так толпы светов я увидел вдруг, Залитые лучами огневыми, Не видя, чем так озарен их круг. 85 О благостная мощь, светя над ними, Ты вознеслась, свой облик затеня, Чтоб я очами мог владеть моими. 88 Весть о цветке, чье имя у меня И днем и ночью на устах, стремила Мой дух к лучам крупнейшего огня. 91 Когда мое мне зренье отразило И яркость и объем звезды живой, Вверху царящей, как внизу царила, 94 Спустился в небо светоч огневой[1707] И, обвиваясь как венок текучий, Замкнул ее в свой вихорь круговой. 97 Сладчайшие из всех земных созвучий, Чья прелесть больше всех душе мила, Казались бы как треск раздранной тучи, 100 В сравненье с этой лирой, чья хвала Венчала блеск прекрасного сапфира, Которым твердь светлейшая светла. 103 «Я вьюсь, любовью чистых сил эфира, Вкруг радости, которую нам шлет Утроба, несшая надежду мира; 106 И буду виться, госпожа высот, Пока не взыдешь к сыну и святые Не освятит просторы твой приход». 109 Такой печатью звоны кольцевые Запечатлелись; и согласный зов Взлетел от всех огней, воззвав к Марии. 112 Всех свитков мира царственный покров,[1708] Дыханьем божьим жарче оживляем И к богу ближе остальных кругов, 115 Нас осенял своим исподним краем Так высоко, что был еще незрим И там, где я стоял, неразличаем; 118 Я был бессилен зрением моим Последовать за пламенем венчанным, Вознесшимся за семенем своим.[1709] 121 Как, утоленный молоком желанным, Младенец руки к матери стремит, С горячим чувством, внешне излиянным, 124 Так каждый из огней был кверху взвит Вершиной, изъявляя ту отраду, Которую Мария им дарит. 127 Они недвижно представали взгляду, «Regina coeli»[1710] воспевая так, Что я доныне чувствую усладу. 130 О, до чего прекрасный собран злак Ларями этими,[1711] и как богато, И как посев их на земле был благ! 133 Здесь радует сокровище, когдато Стяжанное у Вавилонских вод В изгнанье слезном, где отверглось злато.[1712] 136 Здесь древний сонм и новый сонм[1713] цветет, И празднует свой подвиг величавый, Под сыном бога и Марии, тот, 139 Кто наделен ключами этой славы.[1714] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 1 О сонм избранных к вечере великой Святого агнца, где утолено Алканье всех! Раз всеблагим владыкой 4 Вот этому вкусить уже дано То, что с трапезы вашей упадает, Хоть время жизни им не свершено, – 7 Помыслив, как безмерно он желает, Ему росы пролейте! Вас поит Родник, дарящий то, чего он чает». 10 Так Беатриче; радостный синклит Стал вьющимися на осях кругами[1715] И, как кометы, пламенем повит. 13 И как в часах колеса ходят сами, Но в первом – ход неразличим извне, А крайнее летит перед глазами, 16 Так эти хороводы, движась не однообразно, медленно и скоро, Различность их богатств являли мне. 19 И вот из драгоценнейшего хора Такой блаженный пламень[1716] воспарил, Что не осталось ярче в нем для взора; 22 Вкруг Беатриче трижды он проплыл, И вспомнить о напеве, им пропетом, Воображенье не находит сил; 25 Скакнув пером, я не пишу об этом; Для этих складок[1717] самые мечты, Не только речь, чрезмерно резки цветом. 28 «Сестра моя святая, так чисты Твои мольбы, что с чередой блаженной Меня любовью разлучила ты». 31 Остановясь, огонь благословенный, Направя к госпоже моей полет Дыханья, дал ответ вышереченный. 34 И та: «О свет, в котором вечен тот, Кому господь от этого чертога Вручил ключи, принесши их с высот, 37 Из уст твоих, насколько хочешь строго, Да будет он о вере вопрошен, Тебя по морю ведшей, волей бога. 40 В любви, в надежде, в вере – прям ли он, Ты видишь сам, взирая величаво Туда, где всякий помысл отражен. 43 Но так как граждан горняя держава Снискала верой, пусть он говорит, Чтобы, как должно, воздалась ей слава». 46 Как бакалавр[1718], вооружась, молчит И ждет вопроса по тому предмету, Где он изложит, но не заключит,[1719] 49 Так точно я, услыша просьбу эту, Вооружал всем знаньем разум мой Перед таким учителем к ответу. 52 «Скажи, христианин, свой лик открой: В чем сущность веры?» Я возвел зеницы К огню, который веял предо мной; 55 Потом, взглянув, увидел проводницы Поспешный знак – словесному ручью Излиться дать из мысленной криницы. 58 «Раз мне дано, чтоб веру я мою Пред мощным первоборцем исповедал, Пусть мысль мою я внятно разовью! – 61 Сказал я. – Как о вере нам поведал Твой брат,[1720] который с помощью твоей Идти путем неверным Риму не дал, 64 Она – основа чаемых вещей И довод для того, что нам незримо; Такую сущность полагаю в ней». 67 И он: «Ты мыслишь неопровержимо, Коль верно понял смысл, в каком она Им как основа и как довод мнима». 70 И я на это молвил: «Глубина Вещей, мне явленных в небесной сфере, Для низменного мира столь темна, 73 Что там их бытие – в единой вере, Дающей упованью прочно стать; Чрез то она – основа в полной мере. 76 Нам подобает умозаключать Из веры там, где знание невластно; И доводом ее нельзя не звать». 79 И я услышал: «Если б все так ясно Усваивали истину, познав, – Софисты ухищрялись бы напрасно». 82 Горящая любовь, так продышав, Добавила: «Неуличим в изъяне Испытанной монеты вес и сплав; 85 Но есть ли у тебя она в кармане?» И я: «Да, есть, блестяща и кругла. И я не усомнюсь в ее чекане». 88 Опять, вещая, голос издала Глубь света: «Этот бисер,[1721] всех дороже, Рождающий все добрые дела, 91 Где ты обрел?» Я молвил: «Дождь погожий Святого духа, щедро пролитой Равно по ветхой и по новой коже,[1722] 94 Есть силлогизм, с такою остротой Меня приведший к правильным основам, Что мнится мне тупым любой иной». 97 И я услышал: «В ветхом или в новом Сужденье – для рассудка твоего Что ты нашел, чтоб счесть их божьим словом?» 100 Я молвил: «Доказательство того – Дела;[1723] для них железа не калило И молотом не било естество». 103 Ответ гласил: «А в том, что это было, Порука где? Что доказательств ждет, То самое свидетельством служило». 106 «Вселенной к христианству переход, – Сказал я, – без чудес, один, бесспорно, Все чудеса стократно превзойдет; 109 Ты, нищ и худ, принес святые зерна, Чтобы взошли ростки благие там, Где вместо лоз теперь колючки терна». 112 Когда я смолк, по огненным кругам Песнь «Бога хвалим» раздалась святая, И горний тот напев неведом нам. 115 И этот князь, который, увлекая От ветви к ветви, чтобы испытать Меня в листве довел уже до края, 118 Так речь свою продолжил: «Благодать, Любя твой ум, доныне отверзала Твои уста, как должно отверзать, 121 И я одобрил то, что вверх всплывало. Но самой этой веры в чем предмет, И в чем она берет свое начало?» 124 «Святой отец и дух, узревший свет, В который верил так, что в гроб спустился, Юнейших ног опережая след,[1724] – 127 Я начал, – ты велишь, чтоб я открылся, В чем эта вера твердая моя И почему я в вере утвердился. 130 Я отвечаю: в бога верю я, Что движет небеса, единый, вечный, Любовь и волю[1725], недвижим, дая. 133 И в физике к той правде безупречной, И в метафизике приходим мы, И мне ее же с выси бесконечной 136 Льют Моисей, пророки и псалмы, Евангелье и то, что вы[1726] сложили, Когда вам дух воспламенил умы. 139 И верю в три лица, что вечно были, Чья сущность столь едина и тройна, Что «суть» и «есть» они равно вместили. 142 Глубь тайны божьей, как она дана В моих словах, в мой разум пролитая, Евангельской печатью скреплена. 145 И здесь – начало, искра здесь живая, Чье пламя разрослось, пыланьем став И, как звезда небес, во мне сверкая». 148 Как господин, отрадной вести вняв, Слугу, когда тот смолк, за извещенье Душой благодарит, его обняв, 151 Так, смолкшему воспев благословенье, Меня кругом до трех обвеял крат Апостольский огонь, чье вняв веленье 154 Я говорил; так был он речи рад. ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 1 Коль в некий день поэмою священной, Отмеченной и небом и землей, Так что я долго чах, в трудах согбенный, 4 Смирится гнев, пресекший доступ мой К родной овчарне,[1727] где я спал ягненком, Немил волкам, смутившим в ней покой, – 7 В ином руне, в ином величьи звонком Вернусь, поэт, и осенюсь венцом[1728] Там, где крещенье принимал ребенком;[1729] 10 Затем что в веру, души пред Творцом Являющую, там я облачился И за нее благословлен Петром.[1730] 13 И вот огонь, к нам движась, отделился От тех огней, откуда старшина[1731] Наместников Христовых появился; 16 И Беатриче, радости полна: «Смотри! Смотри! Вот витязь, чьим заслугам Такая честь в Галисьи воздана!»[1732] 19 Как если голубь сядет рядом с другом, И, нежностью взаимною делясь, Они воркуют и порхают кругом, 22 Так, видел я, один высокий князь Встречал другого ласковым приветом И брашна горние хвалил, дивясь. 25 Приветствия закончились на этом, И каждый coram me,[1733] недвижен, нем, Так пламенел, что взгляд сражен был светом. 28 И Беатриче молвила затем С улыбкой: «Славный дух и возвеститель Того, как щедр небесный храм ко всем,[1734] 31 Надеждой эту огласи обитель. Ведь ею ты бывал в людских глазах, Когда троих из вас почтил спаситель».[1735] 34 «Вздыми чело, превозмоги свой страх; Из смертного предела вознесенный Здесь должен в наших созревать лучах». 37 Так говорил душе моей смущенной Второй огонь; и я возвел к горам[1736] Взгляд, гнетом их чрезмерным преклоненный. 40 «Раз наш властитель изволяет сам, Чтоб ты среди чертога потайного, Еще живой, предстал его князьям 43 И, видев правду царства неземного, Надежду, что к благой любви ведет, В себе и в остальных упрочил снова, 46 Поведай, что́ – она, и как цветет В твоей душе, и как в нее вступила». Так молвил снова тот огонь высот. 49 И та, что перья крыл моих стремила В их воспаренье до таких вершин, Меня в ответе так предупредила: 52 «В воинствующей церкви ни один Надеждой не богаче, – как то зримо В пресветлом Солнце неземных дружин; 55 За то увидеть свет Ерусалима[1737] Он из Египта[1738] этот путь свершил, Еще воинствуя неутомимо. 58 Другие два вопроса (ты спросил Не чтоб узнать, а с тем, что он изложит, Как эту добродетель ты почтил) 61 Ему оставлю я; на оба может Легко и не хвалясь ответить он; И божья милость пусть ему поможет». 64 Как школьник, на уроке вопрошен, Свое желая обнаружить знанье, Рад отвечать про то, в чем искушен: 67 «Надежда, – я сказал, – есть ожиданье Грядущей славы; ценность прежних дел И благодать – его обоснованье. 70 От многих звезд я этот свет узрел; Но первый мне его пролил волною Тот, кто всех выше вышнего воспел.[1739] 73 «Да уповают на тебя душою, – Он пел, – кто имя ведает твое!» И как не ведать, веруя со мною? 76 Ты ею сердце оросил мое В твоем посланьи; полн росы блаженной, Я и других кроплю дождем ее». 79 Пока я говорил, в груди нетленной Того пожара – колебался свет, Как вспышки молний, частый и мгновенный. 82 «Любовь, которой я досель согрет, – Дохнул он, – к добродетели,[1740] до края Борьбы за пальму шедшей мне вослед,[1741] 85 Велит мне вновь дохнуть тебе, взирая, Как ты ей рад, дабы ты мне сказал, Чего ты ожидаешь, уповая». 88 «Я это понял, – так я отвечал, – Из Нового и Ветхого завета, Цель душ познав, тех, что господь избрал. 91 В две ризы[1742] будет каждая одета В земле своей, – Исайя возвестил. А их земля – жизнь сладостная эта. 94 Еще ясней, по мере наших сил, Твой брат,[1743] сказав про белые уборы, Нам откровенье это изложил», 97 Когда я кончил, – огласив просторы, «Sperent in te»[1744] раздалось в вышине; На что, кружа, откликнулись все хоры. 100 И так разросся свет в одном огне,[1745] Что, будь у Рака сходный перл, зимою Бывал бы месяц о едином дне.[1746] 103 Как девушка встает, идет и, к рою Плясуний примыкая, воздает Честь новобрачной, не кичась собою, 106 Так, видел я, вспылавший пламень тот Примкнул к двоим, которых, с нами рядом, Любви горящей мчал круговорот. 109 Он слился с песнопением и ладом; Недвижна и безмолвна, госпожа Их, как невеста, озирала взглядом. 112 «Он, с Пеликаном нашим возлежа, К его груди приник;[1747] и с выси крестной Приял великий долг, ему служа». 115 Так Беатриче; взор ее чудесный Ее словами не был отвлечен От созерцанья красоты небесной. 118 Как тот, чей взгляд с усильем устремлен, Чтоб видеть солнце затемненным частно, И он, взирая, зрения лишен, 121 Таков был я пред вспыхнувшим столь ясно И услыхал: «Зачем слепишь ты взор, Чтоб видеть то, чего искать напрасно?[1748] 124 Я телом – прах во прахе до тех пор, Пока число не завершится наше, Как требует предвечный приговор. 127 В двух ризах здесь,[1749] и всех блаженных краше, Лишь два сиянья, взнесшиеся вдруг; И с этим ты вернешься в царство ваше». 130 При этом слове огнезарный круг Затих, и с ним – рождавшийся в пречистом Смешенье трех дыханий нежный звук; 133 Так, на шабаш иль в месте каменистом, Строй весел, только что взрезавших вал, Враз замирает, остановлен свистом. 136 О, что за трепет душу мне объял, Когда я обернулся к Беатриче И ничего не видел, хоть стоял 139 Вблизи нее и в мире всех величий! ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 1 Пока я был смущен угасшим взором, Осиливший его костер лучей[1750] Повеял дуновением, в котором 4 Послышалось: «Доколе свет очей, Затменный мной, к тебе не возвратится, Да возместит утрату звук речей. 7 Итак, начни; скажи, куда стремится Твоя душа,[1751] и отстрани испуг: Взор у тебя не умер, а мутится. 10 В очах у той, что ввысь из круга в круг Тебя стезею дивной возносила, Таится мощь Ананииных рук».[1752] 13 «С терпеньем жду, – моим ответом было, – Целенья глаз, куда, как в недра врат, Она с огнем сжигающим вступила. 16 Святое Благо неземных палат Есть альфа и омега книг, чьи строки Уста любви мне шепчут и гласят».[1753] 19 И голос тот, которым я, безокий, Утешился в нежданной слепоте, Вновь налагая на меня уроки, 22 Сказал: «Тебя на частом решете Проверю я. Какие побужденья Твой лук направили к такой мете?»[1754] 25 И я: «Чрез философские ученья И через то, что свыше внушено, Я той любви приял напечатленья; 28 Затем что благо, чуть оценено, Дает вспылать любви, тем боле властной, Чем больше в нем добра заключено. 31 Поэтому к Прасути, столь прекрасной, Что все блага, которые не в ней, – Ее луча всего лишь свет неясный, 34 Должна с любовью льнуть всего сильней Душа того, кто правду постигает, Проникшую мой довод до корней. 37 Ту правду предо мною расстилает Мне показавший первую Любовь[1755] Всего, что вековечно пребывает; 40 Правдивый голос расстилает вновь, Сам о себе сказавший Моисею: «Узреть всю славу дух твой приготовь»;[1756] 43 И расстилаешь ты, когда твоею Высокой речью миру оглашен Смысл вышних тайн так громко, как ничьею». 46 «Земным рассудком, – вновь повеял он, – И подтверждающими голосами[1757] Жарчайший пыл твой к богу обращен. 49 Но и другими, может быть, ремнями К нему влеком ты. Сколькими, открой, Твоя любовь язвит тебя зубами?» 52 Не утаился умысел святой Орла Христова,[1758] так что я заметил, Куда ответ он направляет мой. 55 «Все те укусы, – я ему ответил, – Что нас стремят к владыке бытия, Крепят любовь, которой дух мой светел. 58 Жизнь мирозданья, как и жизнь моя, Смерть, что он принял, жить мне завещая, Все, в чем надежда верящих, как я, 61 И сказанная истина живая[1759] – Меня из волн дурной любви спасли, На берегу неложной утверждая. 64 И все те листья,[1760] что в саду взросли У вечного садовника, люблю я, Поскольку к ним его дары сошли». 67 Едва я смолк, раздался, торжествуя, Напев сладчайший в небе: «Свят, свят, свят!» И Беатриче вторила, ликуя. 70 Как при колючем свете сон разъят Тем, что стремится зрительная сила На луч, пронзающий за платом плат,[1761] 73 И зренье пробужденному немило, Настолько смутен он, вернувшись в быль, Пока сознанье ум не укрепило, – 76 Так Беатриче с глаз моих всю пыль Прочь согнала очей своих лучами, Сиявшими на много тысяч миль; 79 Я даже стал еще острей глазами; И вопросил, смущенный, про того, Кто как четвертый свет возник пред нами. 82 И Беатриче мне: «В лучах его Душа, всех прежде созданная,[1762] славит Создателя и бога своего». 85 Как сень ветвей, когда ее придавит Идущий ветер, никнет, тяжела, Потом, вознесшись, вновь листву расправит, – 88 Таков был я, пока та речь текла, Дивясь; потом, отвагу вновь обретши В той жажде молвить, что мне душу жгла, 91 Я начал: «Плод, единый, что, не цветши, Был создан зрелым, праотец людей, Дочь и сноху в любой жене нашедший,[1763] 94 Внемли мольбе усерднейшей моей, Ответь! Вопрос ты ведаешь заране, И я молчу, чтоб внять тебе скорей». 97 Когда зверек накрыт обрывком ткани, То, оболочку эту полоша, Он выдает всю явь своих желаний; 100 И точно так же первая душа Свою мне радость сквозь лучи покрова Изобличала, благостью дыша. 103 Потом дохнула: «В нем[1764] я и без слова Уверенней, чем ты уверен в том, Что несомненнее всего иного. 106 Его я вижу в Зеркале святом, Которое, все отражая строго, Само не отражается ни в чем. 109 Ты хочешь знать, давно ль я, волей бога, Вступил в высокий сад, где в должный миг Тебе открылась горняя дорога,[1765] 112 Надолго ль он в глазах моих возник, И настоящую причину гнева, И мною изобретенный язык. 115 Знай, сын мой: не вкушение от древа, А нарушенье воли божества Я искупал, и искупала Ева. 118 Четыре тысячи и триста два Возврата солнца твердь меня манила Там, где Вергилий свыше внял слова;[1766] 121 Оно же все попутные светила Повторно девятьсот и тридцать раз, Пока я жил на свете, посетило.[1767] 124 Язык, который создал я, угас Задолго до немыслимого дела Тех, кто Немвродов исполнял приказ;[1768] 127 Плоды ума зависимы всецело От склоннностей, а эти – от светил, И потому не длятся без предела. 130 Естественно, чтоб смертный говорил; Но – так иль подругому, это надо, Чтоб не природа, а он сам решил. 133 Пока я не сошел к томленью Ада, «И» в дольном мире звался Всеблагой, В котором вечная моя отрада; 136 Потом он звался «Эль»; и так любой Обычай смертных сам себя сменяет, Как и листва сменяется листвой. 139 На той горе, что выше всех всплывает, Я пробыл и святым, и несвятым От утра и до часа, что вступает, 142 Чуть солнце сменит четверть, за шестым».[1769] ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 1 «Отцу, и сыну, и святому духу» – Повсюду – «слава!» – раздалось в Раю, И тот напев был упоеньем слуху. 4 Взирая, я, казалось, взором пью Улыбку мирозданья, так что зримый И звучный хмель вливался в грудь мою. 7 О, радость! О, восторг невыразимый! О, жизнь, где всё – любовь и всё – покой! О, верный клад, без алчности хранимый! 10 Четыре светоча[1770] передо мной Пылали, и, мгновенье за мгновеньем, Представший первым[1771] силил пламень свой; 13 И стал таким, каким пред нашим зреньем Юпитер был бы, если б Марс и он, Став птицами, сменились опереньем.[1772] 16 Та власть, которой там распределен Черед и чин, благословенным светам Велела смолкнуть, и угас их звон, 19 Когда я внял: «Что я меняюсь цветом, Не удивляйся; внемля мой глагол, Все переменят цвет в соборе этом. 22 Тот, кто, как вор, воссел на мой престол,[1773] На мой престол, на мой престол, который Пуст перед сыном божиим, возвел 25 На кладбище моем[1774] сплошные горы Кровавой грязи; сверженный с высот,[1775] Любуясь этим, утешает взоры». 28 Тот цвет, которым солнечный восход Иль час заката облака объемлет, Внезапно охватил весь небосвод. 31 И словно женщина, чья честь не дремлет И сердце стойко, чувствует испуг, Когда о чьемлибо проступке внемлет, 34 Так Беатриче изменилась вдруг; Я думаю, что небо так затмилось, Когда Всесильный[1776] поникал средь мук. 37 Меж тем все дальше речь его стремилась, И перемена в голосе была Не меньшая, чем в облике явилась. 40 «Невеста божья не затем взросла Моею кровью, кровью Лина, Клета, Чтоб золото стяжалось без числа; 43 И только чтоб стяжать блаженство это, Сикст, Пий, Каликст и праведный Урбан,[1777] Стеня, пролили кровь в былые лета. 46 Не мы хотели, чтобы христиан Преемник наш пристрастною рукою Делил на правый и на левый стан;[1778] 49 Ни чтоб ключи, полученные мною, Могли гербом на ратном стяге стать, Который на крещеных поднят к бою; 52 Ни чтобы образ мой скреплял печать Для льготных грамот, покупных и лживых, Меня краснеть неволя и пылать! 55 В одежде пастырейволков грызливых На всех лугах мы видим средь ягнят. О божий суд, восстань на нечестивых! 58 Гасконцы с каорсинцами[1779] хотят Пить нашу кровь; о доброе начало,[1780] В какой конечный впало ты разврат! 61 Но промысел, чья помощь Рим спасала В великой Сципионовой борьбе,[1781] Спасет, я знаю, – и пора настала. 64 И ты, мой сын, сойдя к земной судьбе Под смертным грузом, смелыми устами Скажи о том, что я сказал тебе!» 67 Как дельный воздух мерзлыми парами Снежит к земле, едва лишь Козерог К светилу дня притронется рогами,[1782] 70 Так здесь эфир себя в красу облек, Победные взвевая испаренья, Помедлившие с нами долгий срок. 73 Мой взгляд следил все выше их движенья, Пока среда чрезмерной высоты Ему не преградила восхожденья. 76 И госпожа, когда от той меты Я взор отвел, сказала: «Опуская Глаза, взгляни, куда пронесся ты!» 79 И я увидел, что с тех пор, когда я Вниз посмотрел, над первой полосой Я от средины сдвинулся до края.[1783] 82 Я видел там, за Гадесом[1784], шальной Улиссов путь;[1785] здесь – берег, на котором Европа стала ношей дорогой.[1786] 85 Я тот клочок[1787] обвел бы шире взором, Но солнце в бездне упреждало нас На целый знак и больше,[1788] в беге скором. 88 Влюбленный дух, который всякий час Стремился пламенно к своей богине, Как никогда ждал взора милых глаз; 91 Все, чем природа или кисть доныне Пленяли взор, чтоб уловлять сердца, Иль в смертном теле, или на картине, 94 Казалось бы ничтожным до конца Пред дивной радостью, что мне блеснула, Чуть я увидел свет ее лица; 97 И мощь, которой мне в глаза пахнуло, Меня, рванув из Ледина гнезда,[1789] В быстрейшее из всех небес[1790] метнула. 100 Так однородна вся его среда, Что я не ведал, где я оказался, Моей вожатой вознесен туда. 103 И мне, чтоб я в догадках не терялся, Так радостно сказала госпожа, Как будто бог в ее лице смеялся: 106 «Природа мира, все, что есть, кружа Вокруг ядра, которое почило,[1791] Идет отсюда, как от рубежа. 109 И небо это божья мысль вместила, Где и любовь, чья власть его влечет, Берет свой пыл, и скрытая в нем сила.[1792] 112 Свет и любовь объемлют этот свод, Как всякий низший кружит, им объятый; И те высоты их творец блюдет.[1793] 115 Движенье здесь[1794] не мерят мерой взятой, Но все движенья меру в нем берут, Как десять – в половине или в пятой.[1795] 118 Как время, в этот погрузясь сосуд Корнями, в остальных живет вершиной, Теперь понять тебе уже не в труд.[1796] 121 О жадность! Не способен ни единый Из тех, кого ты держишь, поглотив, Поднять зеницы над твоей пучиной! 124 Цвет доброй воли в смертном сердце жив; Но ливней беспрестанные потоки Родят уродцев из хороших слив. 127 Одни младенцы слушают уроки Добра и веры, чтоб забыть вполне Их смысл скорей, чем опушатся щеки. 130 Кто, лепеча, о постном помнил дне, Вкушает языком, возросшим в силе, Любую пищу при любой луне.[1797] 133 Иной из тех, что, лепеча, любили И чтили мать, – владея речью, рад Ее увидеть поскорей в могиле. 136 И так вот кожу белую чернят, Вняв обольщеньям дочери прекрасной Дарующего утро и закат.[1798] 139 Размысли, и причина станет ясной: Ведь над землею власть упразднена,[1799] И род людской идет стезей опасной. 142 Но раньше, чем январь возьмет весна Посредством сотой,[1800] вами небреженной, Так хлынет светом горняя страна, 145 Что вихрь[1801], уже давно предвозвещенный, Носы туда, где кормы, повернет, Помчав суда дорогой неуклонной; 148 И за цветком поспеет добрый плод». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 1 Когда, скорбя о жизни современной Несчастных смертных, правду вскрыла мне Та, что мой дух возносит в рай блаженный, – 4 То как, узрев в зеркальной глубине Огонь свечи, зажженной гдето рядом, Для глаз и дум негаданный вполне, 7 И обратясь, чтобы проверить взглядом Согласованье правды и стекла, Мы видим слитность их, как песни с ладом, – 10 Так и моя мне память сберегла, Что я так сделал, взоры погружая В глаза, где путы мне любовь сплела. 13 И я, – невольно зренье обращая К тому, что можно видеть в сфере той, Ее от края оглянув до края, – 16 Увидел Точку[1802], лившую такой Острейший свет, что вынести нет мочи Глазам, ожженным этой остротой. 19 Звезда, чью малость еле видят очи, Казалась бы луной, соседя с ней, Как со звездой звезда в просторах ночи. 22 Как невдали обвит кольцом лучей Небесный свет, его изобразивший, Когда несущий пар всего плотней, 25 Так Точку обнял круг огня[1803],[1804] круживший Столь быстро, что одолевался им Быстрейший бег,[1805] вселенную обвивший. 28 А этот опоясан был другим, Тот – третьим, третий в свой черед – четвертым, Четвертый – пятым, пятый, вновь, – шестым. 31 Седьмой был вширь уже настоль простертым, Что никогда б его не охватил Гонец Юноны[1806] круговым развертом. 34 Восьмой кружил в девятом; каждый плыл Тем более замедленно, чем дале По счету он от единицы был. 37 Чем ближе к чистой Искре, тем пылали Они ясней, должно быть оттого, Что истину ее полней вбирали. 40 При виде колебанья моего: «От этой Точки, – молвил мой вожатый, – Зависят небеса и естество. 43 Всмотрись в тот круг, всех ближе к ней прижатый: Он потому так быстро устремлен, Что кружит, страстью пламенной объятый». 46 И я в ответ: «Будь мир расположен, Как эти круговратные обводы, Предложенным я был бы утолен. 49 Но в мире ощущаемой природы Чем выше над срединой[1807] взор воздет, Тем все божественнее небосводы. 52 Поэтому мне надобен ответ Об этом дивном ангельском чертоге, Которому предел – любовь и свет:[1808] 55 Зачем идут не по одной дороге Подобье и прообраз?[1809] Мысль вокруг Витает и нуждается в подмоге». 58 «Что этот узел напряженью рук Не поддается, – ты не удивляйся: Он стал, никем не тронут, слишком туг». 61 Так госпожа; и дальше: «Насыщайся Тем, что воспримешь из моих речей, И мыслию над этим изощряйся. 64 Плотские своды[1810] – шире иль тесней, Смотря по большей или меньшей силе, Разлитой на пространстве их частей. 67 По мере силы – мера изобилий; Обилье больше, где большой объем И нет частей, что б целому вредили. 70 Наш свод, влекущий в вихре круговом Все мирозданье, согласован дружно С превысшим в знанье и в любви кольцом.[1811] 73 И ты увидишь, – ибо мерить нужно Лишь силу, а не видимость того, Что здесь перед тобой стремится кружно, – 76 Как в каждом небе дивное сродство Большого – с многим, с малым – небольшого Его связует с Разумом его».[1812] 79 Как полушарье воздуха земного Яснеет вдруг, когда Борей дохнет Щекой, которая не так сурова,[1813] 82 И, тая, растворяется налет Окрестной мглы, чтоб небо озарилось Неисчислимостью своих красот, – 85 Таков был я, когда со мной делилась Своим ответом ясным госпожа И правда, как звезда в ночи, открылась. 88 Чуть речь ее дошла до рубежа, То так железо, плавясь в мощном зное, Искрит, как кольца брызнули, кружа. 91 И все те искры мчались в общем рое, И множились несметней их огни, Чем шахматное поле, множась вдвое.[1814] 94 Я слышал, как хвалу поют они Недвижной Точке, вкруг нее стремимы Из века в век, как было искони. 97 И видевшая разум мой томимый Сказала: «В первых двух кругах кружат, Объемля Серафимов, Херувимы. 100 Покорны узам,[1815] бег они стремят, Уподобляясь Точке, сколько властны; А властны – сколько вознесен их взгляд. 103 Ближайший к ним любви венец прекрасный Сплели Престолы[1816] божьего лица; На них закончен первый сонм трехчастный. 106 Знай, что отрада каждого кольца – В том, сколько зренье в Истину вникает, Где разум утоляем до конца. 109 Мы видим, что блаженство возникает От зрения, не от любви; она Лишь спутницей его сопровождает; 112 А зренью мощь заслугами дана, Чьи корни – в милости и в доброй воле; Так лестница помалу пройдена.[1817] 115 Три смежных сонма, зеленея в доле Вовеки нескончаемой весны, Где и ночной Овен[1818] не властен боле, 118 «Осанною» всегда оглашены На три напева, что в тройной святыне Поют троеобразные чины. 121 В иерархии этой – три богини:[1819] Сперва – Господства, дальше – Сил венец, А вслед за ними – Власти, в третьем чине. 124 В восторгах предпоследних двух колец Начала и Архангелы витают; И Ангельская радость наконец. 127 Все эти сонмы к высоте[1820] взирают И, книзу[1821] власть победную лия, Влекомы к богу, сами увлекают. 130 И Дионисий[1822] в тайну бытия Их степеней так страстно погружался, Что назвал их и различил, как я. 133 Григорий[1823] с ним потом не соглашался; Зато, чуть в небе он глаза раскрыл, Он сам же над собою посмеялся. 136 И если столько тайных правд явил Пред миром смертный, чуда в том не много: Здесь их узревший[1824] – их ему внушил 139 Средь прочих истин этого чертога». ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 1 Когда чету, рожденную Латоной, Здесь – знак Овна, там – знак Весов хранит, А горизонт связует общей зоной, 4 То миг, когда их выровнял зенит, И миг, в который связь меж ними пала И каждый в новый небосвод спешит, 7 Разлучены не дольше, чем молчала С улыбкой Беатриче,[1825] все туда Смотря, где Точка взор мой побеждала.[1826] 10 Она промолвила: «Мне нет труда Тебе ответить, твой вопрос читая[1827] Там,[1828] где слились все «где» и все «когда». 13 Не чтобы стать блаженней, – цель такая Немыслима, – но чтобы блеск лучей, Струимых ею, молвил «Есмь», блистая, – 16 Вне времени, в предвечности своей, Предвечная любовь сама раскрылась, Безгранная, несчетностью любвей. 19 Она и перед этим находилась Не в косном сне, затем что божество Ни «до», ни «после» над водой носилось. 22 Врозь и совместно, суть и вещество В мир совершенства[1829] свой полет помчали, – С тройного лука три стрелы его.[1830] 25 Как в янтаре, стекле или кристалле Сияет луч, причем его приход И заполненье целого совпали, 28 Так и Творца троеобразный плод Излился, как внезапное сиянье, Где никакой неразличим черед. 31 Одновременны были и созданье, И строй существ; над миром быть дано Вершиной тем, в ком – чистое деянье, 34 А чистую возможность держит дно; В средине – связью навсегда нетленной С возможностью деянье сплетено.[1831] 37 Хоть вам писал Иероним[1832] блаженный, Что ангелы за долгий ряд веков Сотворены до остальной вселенной, 40 Но истину на множестве листов Писцы святого духа[1833] возвестили, Как ты поймешь, вникая в смысл их слов, 43 И разум видит сам, поскольку в силе, Что движители вряд ли долго так Без подлинного совершенства были.[1834] 46 Теперь ты знаешь, где, когда и как Сотворены любови их собора,[1835] И трех желаний жар в тебе иссяк. 49 До двадцати не сосчитать так скоро, Как часть бесплотных духов привела В смятенье то, в чем для стихий опора.[1836] 52 Другая часть, оставшись, начала Так страстно здесь кружиться, что начатый Круговорот прервать бы не могла. 55 Причиною паденья был в проклятой Гордыне тот, кто пред тобой предстал, Всем гнетом мира отовсюду сжатый.[1837] 58 Сонм, зримый здесь, смиренно признавал Себя возникшим в Благости бездонной, Чей свет ему познанье даровал. 61 За это, по заслугам вознесенный Чрез озаряющую благодать, Он преисполнен воли непреклонной. 64 И ты, не сомневаясь, должен знать, Что благодать нисходит по заслуге К любви, раскрытой, чтоб ее принять. 67 Теперь ты сам об этом мудром круге, Раз мой урок тобою восприят, Немалое домыслишь на досуге. 70 Но так как вам ученые твердят, Природу ангелов изображая, Что те, мол, мыслят, помнят и хотят, 73 Скажу еще, чтобы тебе прямая Открылась правда, на земле у вас Двусмысленным ученьем повитая. 76 Бесплотные, возрадовавшись раз Лицу Творца, пред кем без утаенья Раскрыто все, с него не сводят глаз; 79 И так как им не пресекает зренья Ничто извне, они и не должны Припоминать отъятые виденья.[1838] 82 У вас же и не спят, а видят сны, Кто веря, а кто нет – своим рассказам; В одном – и срама больше, и вины.[1839] 85 Там, на земле, не направляют разум Одной тропой: настолько вас влекут Страсть к внешности и жажда жить показом. 88 Все ж, это с меньшим гневом терпят тут, Чем если слово божье суесловью Приносят в жертву или вкривь берут. 91 Не думают, какою куплен кровью Его посев и как тому, кто чтит Его смиренно, воздают любовью.[1840] 94 Для славы, каждый чтото норовит Измыслить, чтобы выдумка блеснула С амвона, а Евангелье молчит. 97 Иной гласит, что вспять луна шагнула В час мук Христовых и сплошную сень Меж солнцем и землею протянула, – 100 И лжет, затем что сам затмился день: Как лег на иудеев сумрак чудный, Так индов и испанцев скрыла тень. 103 Нет стольких Лапо во Фьоренце людной И стольких Биндо,[1841] сколько басен в год Иной наскажет пастырь безрассудный; 106 И стадо глупых с пастбища бредет, Насытясь ветром; ни один не ведал, Какой тут вред, но это не спасет. 109 Христос наказа первым верным не дал: «Идите, суесловьте!», но свое Ученье правды им он заповедал, 112 И те, провозглашая лишь ее, Во имя веры подымали в схватке Евангелье, как щит и как копье. 115 Теперь в церквах лишь на остроты падки Да на ужимки; если громок смех, То куколь пыжится,[1842] и все в порядке. 118 А в нем сидит птенец, тайком от всех, Такой, что чернь, увидев, поняла бы, Какая власть ей отпускает грех;[1843] 121 Все до того рассудком стали слабы, Что люди верят всякому вранью, И на любой посул толпа пришла бы. 124 Так кормит плут Антоньеву свинью И разных прочих, кто грязней намного, Платя деньгу поддельную свою.[1844] 127 Но это все – окольная дорога, И нам пора на прежний путь опять, Со временем сообразуясь строго. 130 Так далеко восходит эта рать Своим числом, что смертной речи сила И смертный ум не могут не отстать. 133 И в самом откровенье Даниила Число не обозначено точней: В его тьмах тем оно себя укрыло.[1845] 136 Первоначальный Свет, разлитый в ней, Воспринят ею столь же разнородно, Сколь много сочетанных с ним огней. 139 А так как от познанья производно Влечение, то искони времен Любовь горит и тлеет в ней несходно. 142 Суди же, сколь пространно вознесен Предвечный, если столькие зерцала Себе он создал, где дробится он, 145 Единый сам в себе, как изначала». ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ 1 Примерно за шесть тысяч миль пылает От нас далекий час шестой, и тень Почти что к плоскости земля склоняет, 4 Когда небес, для нас глубинных, сень Становится такой, что луч напрасный Часть горних звезд на эту льет ступень;[1846] 7 По мере приближения прекрасной Служанки солнца,[1847] меркнет глубина От славы к славе,[1848] вплоть до самой ясной. 10 Так празднество, чьи вьются пламена, Объемля Точку, что меня сразила, Вмещаемым как будто вмещена,[1849] 13 За мигом миг свой яркий свет гасило; Тогда любовь, как только он погас, Вновь к Беатриче взор мой обратила. 16 Когда б весь прежний мой о ней рассказ Одна хвала, включив, запечатлела, Ее бы мало было в этот раз. 19 Я красоту увидел, вне предела Не только смертных; лишь ее творец, Я думаю, постиг ее всецело. 22 Здесь признаю, что я сражен вконец, Как не бывал сражен своей задачей, Трагед иль комик,[1850] ни один певец; 25 Как слабый глаз от солнца, не иначе, Мысль, вспоминая, что за свет сиял В улыбке той, становится незрячей. 28 С тех пор как я впервые увидал Ее лицо здесь на земле, всечасно За ней я в песнях следом поспевал; 31 Но ныне я старался бы напрасно Достигнуть пеньем до ее красот, Как тот, чье мастерство уже не властно. 34 Такая, что о ней да воспоет Труба звучней моей, не столь чудесной, Которая свой труд к концу ведет: 37 «Из наибольшей области телесной,[1851] – Как бодрый вождь, она сказала вновь, – Мы вознеслись в чистейший свет небесный,[1852] 40 Умопостижный свет, где все – любовь, Любовь к добру, дарящая отраду, Отраду слаще всех, пьянящих кровь. 43 Здесь райских войск увидишь ты громаду, И ту, и эту рать;[1853] из них одна Такой, как в день суда, предстанет взгляду». 46 Как вспышкой молнии поражена Способность зренья, так что и к предметам, Чей блеск сильней, бесчувственна она, – 49 Так я был осиян ярчайшим светом, И он столь плотно обволок меня, Что все исчезло в озаренье этом. 52 «Любовь, от века эту твердь храня, Вот так приветствует, в себя приемля, И так свечу готовит для огня».[1854] 55 Еще словам коротким этим внемля, Я понял, что прилив какихто сил Меня возносит, надо мной подъемля; 58 Он новым зреньем взор мой озарил, Таким, что выдержать могло бы око, Какой бы яркий пламень ни светил. 61 И свет предстал мне в образе потока, Струистый блеск, волшебною весной Вдоль берегов расцвеченный широко. 64 Живые искры, взвившись над рекой, Садились на цветы, кругом порхая, Как яхонты в оправе золотой; 67 И, словно хмель в их запахе впивая, Вновь погружались в глубь чудесных вод; И чуть одна нырнет, взлетит другая. 70 «Порыв, который мысль твою влечет Постигнуть то, что пред тобой предстало, Мне тем милей, чем больше он растет. 73 Но надо этих струй испить сначала, Чтоб столь великой жажды зной утих».[1855] Так солнце глаз моих, начав, сказало; 76 И вновь: «Река, топазов огневых Взлет и паденье, смех травы блаженный – Лишь смутные предвестья правды их.[1856] 79 Они не по себе несовершенны, А это твой же собственный порок, Затем что слабосилен взор твой бренный». 82 Так к молоку не рвется сосунок Лицом, когда ему порой случится Проспать намного свой обычный срок, 85 Как устремился я, спеша склониться, Чтоб глаз моих улучшить зеркала, К воде, дающей в лучшем утвердиться. 88 Как только влаги этой испила Каемка век,[1857] река, – мне показалось, – Из протяженной сделалась кругла; 91 И как лицо, которое скрывалось Личиною, – чуть ложный вид исчез, Становится иным, чем представлялось, 94 Так превратились в больший пир чудес Цветы и огоньки, и я увидел Воочью оба воинства небес.[1858] 97 О божий блеск, в чьей славе я увидел Всеистинной державы торжество, – Дай мне сказать, как я его увидел! 100 Есть горний свет, в котором божество Является очам того творенья, Чей мир единый – созерцать его; 103 Он образует круг, чьи измеренья Настоль огромны, что его обвод Обвода солнца шире без сравненья. 106 Его обличье луч ему дает, Верх озаряя тверди первобежной, Чья жизнь и мощь начало в нем берет.[1859] 109 И как глядится в воду холм прибрежный, Как будто чтоб увидеть свой наряд, Цветами убран и травою нежной, 112 Так, окружая свет, над рядом ряд, – А их сверх тысячи, – в нем отразилось Все, к высотам обретшее возврат. 115 Раз в нижний круг такое бы вместилось Светило, какова же ширина Всей этой розы, как она раскрылась?[1860] 118 Взор не смущали глубь и вышина, И он вбирал весь этот праздник ясный В количестве и в качестве сполна. 121 Там близь и даль давать и брать не властны:[1861] К тому, где бог сам и один царит, Природные законы непричастны. 124 В желть вечной розы,[1862] чей цветок раскрыт И вширь, и ввысь и негой благовонной Песнь Солнцу вечно вешнему[1863] творит, 127 Я был введен, – как тот, кто смолк, смущенный, – Моей владычицей, сказавшей: «Вот Сонм, в белые одежды облеченный! 130 Взгляни, как мощно град наш вкруг идет! Взгляни, как переполнены ступени И сколь немногих он отныне ждет![1864] 133 А где, в отличье от других сидений, Лежит венец, твой привлекая глаз, Там, раньше, чем ты вступишь в эти сени, 136 Воссядет дух державного средь вас Арриго[1865], что, Италию спасая, Придет на помощь в слишком ранний час. 139 Так одуряет вас корысть слепая, Что вы – как новорожденный в беде, Который чахнет, мамку прочь толкая. 142 В те дни увидят в божием суде Того, кто явный путь и сокровенный С ним поведет поразному везде. 145 Но не потерпит бог, чтоб сан священный Носил он долго; так что канет он Туда, где Симон волхв казнится, пленный; 148 И будет вглубь Аланец оттеснен».[1866] ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 1 Как белой розой, чей венец раскрылся, Являлась мне святая рать высот, С которой агнец кровью обручился; 4 А та, что, рея,[1867] видит и поет Лучи того, кто дух ее влюбляет И ей такою мощной быть дает, 7 Как войско пчел, которое слетает К цветам и возвращается потом Туда, где труд их сладость обретает, 10 Витала низко над большим цветком, Столь многолистным, и взлетала снова Туда, где их Любви всевечный дом. 13 Их лица были из огня живого, Их крылья – золотые, а наряд Так бел, что снега не найти такого. 16 Внутри цветка они за рядом ряд Дарили миром и отрадой пыла, Которые они на крыльях мчат. 19 То, что меж высью и цветком парила Посереди такая густота, Ни зрению, ни блеску не вредило; 22 Господня слава всюду разлита По степени достоинства вселенной, И от нее не может быть щита. 25 Весь этот град, спокойный и блаженный, Полн древнею и новою толпой,[1868] Взирал, любя, к одной мете священной. 28 Трехликий свет, ты, что одной звездой Им в очи блещешь, умиротворяя, Склони свой взор над нашею грозой! 31 Раз варвары, пришедшие из края, Где с милым сыном в высях горних стран Кружит Гелика,[1869] день за днем сверкая, 34 Увидев Рим и как он в блеск убран, Дивились, созерцая величавый Над миром вознесенный Латеран[1870], – 37 То я, из тлена в свет небесной славы, В мир вечности из времени вступив, Из стен Фьоренцы в мудрый град и здравый, 40 Какой смущенья испытал прилив! Душой меж ним и радостью раздвоен, Я был охотно глух и молчалив. 43 И как паломник, сердцем успокоен, Осматривает свой обетный храм, Надеясь рассказать, как он устроен, – 46 Так, в ярком свете дав блуждать очам, Я озирал ряды ступеней стройных, То в высоту, то вниз, то по кругам. 49 Я видел много лиц, любви достойных, Украшенных улыбкой и лучом, И обликов почтенных и спокойных. 52 Когда мой взор, все обошед кругом, Воспринял общее строенье Рая, Внимательней не медля ни на чем, 55 Я обернулся, волей вновь пылая, И госпожу мою спросить желал О том, чего не постигал, взирая. 58 Мне встретилось не то, что я искал; И некий старец[1871] в ризе белоснежной На месте Беатриче мне предстал. 61 Дышали добротою безмятежной Взор и лицо, и он так ласков был, Как только может быть родитель нежный. 64 Я тотчас: «Где она?» – его спросил; И он: «К тебе твоим я послан другом, Чтоб ты свое желанье завершил. 67 Взглянув на третий ряд под верхним кругом,[1872] Ее увидишь ты, еще светлей, На троне, ей сужденном по заслугам». 70 Я, не ответив, поднял взоры к ней, И мне она явилась осененной Венцом из отражаемых лучей. 73 От области, громами оглашенной, Так отдален не будет смертный глаз, На дно морской пучины погруженный, 76 Как я от Беатриче был в тот час; Но это мне не затмевало взгляда, И лик ее в сквозной среде не гас. 79 «О госпожа, надежд моих ограда, Ты, чтобы помощь свыше мне подать, Оставившая след свой в глубях Ада, 82 Во всем, что я был призван созерцать, Твоих щедрот и воли благородной Я признаю и мощь и благодать. 85 Меня из рабства на простор свободный Они по всем дорогам провели, Где власть твоя могла быть путеводной. 88 Хранить меня и впредь благоволи, Дабы мой дух, отныне без порока, Тебе угодным сбросил тлен земли!» 91 Так я воззвал; с улыбкой, издалека, Она ко мне свой обратила взгляд; И вновь – к сиянью Вечного Истока. 94 И старец: «Чтоб свершился без преград Твой путь, – на то и стал с тобой я рядом, Как мне и просьба и любовь велят,[1873] – 97 Паря глазами, свыкнись с этим садом; Тогда и луч божественный смелей Воспримешь ты, к нему взлетая взглядом. 100 Владычица небес, по ком я всей Горю душой, нам всячески поможет, Вняв мне, Бернарду, преданному ей». 103 Как тот, кто из Кроации, быть может, Придя узреть нерукотворный лик,[1874] Старинной жаждой умиленье множит 106 И думает, чуть он пред ним возник: «Так вот твое подобие какое, Христе Исусе, господи владык!» – 109 Так я взирал на рвение святое Того, кто, окруженный миром зла, Жил, созерцая, в неземном покое. 112 «Сын милости, как эта жизнь светла, Ты не постигнешь, если к горней сени, – Так начал он, – не вознесешь чела. 115 Но если взор твой минет все ступени, Он в высоте, на троне, обретет Царицу[1875] этих верных ей владений». 118 Я поднял взгляд; как утром небосвод В восточной части, озаренной ало, Светлей, чем в той, где солнце западет, 121 Так, словно в гору движа из провала Глаза, я увидал, что часть каймы[1876] Все остальное светом побеждала. 124 И как сильнее пламень там, где мы Ждем дышло, Фаэтону роковое,[1877] А в обе стороны – все больше тьмы, 127 Так посредине пламя заревое Та орифламма[1878] мирная лила, А по краям уже не столь живое. 130 И в той средине, распластав крыла, – Я видел, – сонмы ангелов сияли, И слава их различною была. 133 Пока они так пели и играли, Им улыбалась Красота[1879], дая Отраду всем, чьи очи к ней взирали. 136 Будь даже равномощна речь моя Воображенью, – как она прекрасна, И смутно молвить не дерзнул бы я. 139 Бернард, когда он увидал, как властно Сковал мне взор его палящий пыл,[1880] Свои глаза к ней устремил так страстно, 142 Что и мои сильней воспламенил. ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 1 В свою отраду вникший созерцатель Повел святую речь, чтоб все сполна Мне пояснить, как мудрый толкователь: 4 «Ту рану, что Марией сращена, И нанесла, и растравила ядом Прекрасная у ног ее жена.[1881] 7 Под ней Рахиль ты обнаружишь взглядом, Глаза ступенью ниже опустив, И с ней, как видишь, Беатриче рядом.[1882] 10 Вот Сарра, вот Ревекка, вот Юдифь, Вот та, чей правнук,[1883] обращаясь к богу, Пел «Miserere»[1884], скорбь греха вкусив.[1885] 13 Так, от порога нисходя к порогу, Они идут, как я по лепесткам Цветок перебираю понемногу. 16 И ниже, от седьмого круга к нам, Еврейки[1886] занимают цепь сидений, Расчесывая розу пополам. 19 Согласно с тем, как вера поколений Взирала ко Христу,[1887] они – как вал, Разъемлющий священные ступени. 22 Там, где цветок созрел и распластал Все листья,[1888] восседает сонм, который Пришествия Христова ожидал. 25 Там, где пустые врублены просторы В строй полукружий,[1889] восседают те, Чьи на Христе пришедшем были взоры. 28 Престол царицы в дивной высоте И все под ним престолы, как преграда, Их разделяют по прямой черте. 31 Напротив – Иоанн,[1890] вершина ряда, Всегда святой, пустынник, после мук Два года пребывавший в недрах Ада;[1891] 34 Раздел здесь вверен цепи божьих слуг, Франциску, Бенедикту, Августину И прочим, донизу, из круга в круг.[1892] 37 Измерь же провидения пучину: Два взора веры обнимает сад, И каждый в нем заполнит половину. 40 И знай, что ниже, чем проходит ряд, Весь склон по высоте делящий ровно,[1893] Не ради собственных заслуг сидят, 43 А по чужим, хотя не безусловно; Здесь – души тех, кто взнесся к небесам, Не зная, что – похвально, что – греховно. 46 Ты в этом убедиться можешь сам, К ним обратив прилежней слух и зренье, По лицам их и детским голосам. 49 Но ты молчишь, тая недоуменье; Однако я расторгну узел пут, Которыми тебя теснит сомненье. 52 Простор державы этой – не приют Случайному, как ни скорбей, ни жажды, Ни голода ты не увидишь тут; 55 Затем что все, здесь зримое, однажды Установил незыблемый закон, И точно пригнан к пальцу перстень каждый. 58 И всякий в этом множестве племен, Так рано поспешивших в мир нетленный, Не sine causa[1894] разно наделен. 61 Царь, чья страна полна такой блаженной И сладостной любви, какой никак Не мог желать и самый дерзновенный, – 64 Творя сознанья, радостей и благ, Распределяет милость самовластно; Мы можем только знать, что это так. 67 И вам из книг священных это ясно, Где как пример даны два близнеца, Еще в утробе живших несогласно.[1895] 70 Раз цвет волос у милости Творца Многообразен, с ним в соотношенье Должно быть и сияние венца. 73 Поэтому на разном возвышенье Не за дела награда им дана: Все их различье – в первом озаренье.[1896] 76 В первоначальнейшие времена Душа, еще невинная, бывала Родительскою верой спасена. 79 Когда времен исполнилось начало, То мальчиков невинные крыла Обрезание силой наделяло. 82 Когда же милость миру снизошла, То, не крестясь крещением Христовым, Невинность вверх подняться не могла. 85 Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым Всего сходней; в ее заре твой взгляд Мощь обретет воззреть к лучам Христовым». 88 И я увидел: дождь таких отрад Над нею изливала рать святая, Чьи сонмы в этой высоте парят, 91 Что ни одно из откровений Рая Так дивно мне не восхищало взор, Подобье бога так полно являя. 94 И дух любви, низведший этот хор,[1897] Воспев: «Ave, Maria, gratia plena!»,[1898] – Свои крыла пред нею распростер. 97 Все, что гласит святая кантилена, За ним воспев, еще светлей процвел Блаженный град, не ведающий тлена. 100 «Святой отец, о ты, что снизошел Побыть со мной, покинув присужденный Тебе от века сладостный престол, 103 Кто этот ангел, взором погруженный В глаза царицы, что слетел сюда, Любовью, как огнем, воспламененный?» 106 Так, чтоб узнать, я вопросил тогда Того, чей лик Марией украшаем, Как солнцем предрассветная звезда.[1899] 109 «Насколько дух иль ангел наделяем Красой и смелостью, он их вместил, – Мне был ответ. – Того и мы желаем; 112 Ведь он был тот, кто с пальмой поспешил К владычице, когда наш груз телесный Господень сын понесть благоволил. 115 Но предприми глазами путь, совместный С моею речью, обходя со мной Патрициев империи небесной. 118 Те два, счастливей, чем любой иной, К Августе[1900] приближенные соседи, – Как бы два корня розы неземной. 121 Левей – источник всех земных наследий, Тот праотец, чей дерзновенный вкус Оставил людям привкус горькой снеди;[1901] 124 Правее – тот, кем утвержден союз Христовой церкви, старец, чьей охране Ключи от розы вверил Иисус.[1902] 127 Тот, кто при жизни созерцал заране Дни тяжкие невесты, чей приход Гвоздями куплен и копьем страданий, – 130 Сел рядом с ним;[1903] а рядом с первым – тот, Под чьим вожденьем жил, вкушая манну, Строптивый, черствый и пустой народ.[1904] 133 Насупротив Петра ты видишь Анну[1905], Которая глядит в дочерний лик, Глаз не сводя, хоть и поет «Осанну»; 136 А против старшины домовладык Сидит Лючия, что тебя спасала, Когда, свергаясь, ты челом поник.[1906] 139 Но мчится время сна,[1907] и здесь пристало Поставить точку, как хороший швей, Кроящий скупо, если ткани мало; 142 И к Пралюбви[1908] возденем взор очей, Дабы, взирая к ней, ты мог вонзиться, Насколько можно, в блеск ее лучей. 145 Но чтобы ты, в надежде углубиться, Стремя крыла, не отдалился вспять, Нам надлежит о милости молиться, 148 Взывая к той, кто милость может дать; А ты сопутствуй мне своей любовью, Чтоб от глагола сердцем не отстать». 151 И, молвив, приступил к молитвословью. ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 1 Я дева мать, дочь своего же сына, Смиренней и возвышенней всего, Предъизбранная промыслом вершина, 4 В тебе явилось наше естество Столь благородным, что его творящий Не пренебрег твореньем стать его. 7 В твоей утробе стала вновь горящей Любовь, чьим жаром райский цвет возник, Раскрывшийся в тиши непреходящей.[1909] 10 Здесь ты для нас – любви полдневный миг;[1910] А в дельном мире, смертных напояя, Ты – упования живой родник. 13 Ты так властна, и мощь твоя такая, Что было бы стремить без крыл полет – Ждать милости, к тебе не прибегая. 16 Не только тем, кто просит, подает Твоя забота помощь и спасенье, Но просьбы исполняет наперед. 19 Ты – состраданье, ты – благоволенье, Ты – всяческая щедрость, ты одна – Всех совершенств душевных совмещенье! 22 Он, человек, который ото дна Вселенной вплоть досюда, часть за частью, Селенья духов обозрел сполна, 25 К тебе зовет о наделенье властью Столь мощною очей его земных, Чтоб их вознесть к Верховнейшему Счастью. 28 И я, который ради глаз моих Так не молил о вспоможенье взгляду, Взношу мольбы, моля услышать их: 31 Развей пред ним последнюю преграду Телесной мглы своей мольбой о нем И высшую раскрой ему Отраду. 34 Еще, царица, властная во всем, Молю, чтоб он с пути благих исканий, Узрев столь много, не сошел потом. 37 Смири в нем силу смертных порываний! Взгляни: вслед Беатриче весь собор, Со мной прося, сложил в молитве длани!» 40 Возлюбленный и чтимый богом взор Нам показал, к молящему склоненный, Что милостивым будет приговор; 43 Затем вознесся в Свет Неомраченный, Куда нельзя и думать, чтоб летел Вовеки взор чейлибо сотворенный. 46 И я, уже предчувствуя предел Всех вожделений, поневоле, страстно Предельным ожиданьем пламенел. 49 Бернард с улыбкой показал безгласно, Что он меня взглянуть наверх зовет; Но я уже так сделал самовластно. 52 Мои глаза, с которых спал налет, Все глубже и все глубже уходили В высокий свет, который правда льет. 55 И здесь мои прозренья упредили Глагол людей; здесь отступает он, А памяти не снесть таких обилий. 58 Как человек, который видит сон И после сна хранит его волненье, А остального самый след сметен, 61 Таков и я, во мне мое виденье Чуть теплится, но нега все жива И сердцу источает наслажденье; 64 Так топит снег лучами синева; Так легкий ветер, листья взвив гурьбою, Рассеивал Сибиллины слова.[1911] 67 О Вышний Свет, над мыслию земною Столь вознесенный, памяти моей. Верни хоть малость виденного мною 70 И даруй мне такую мощь речей, Чтобы хоть искру славы заповедной Я сохранил для будущих людей! 73 В моем уме ожив, как отсвет бледный, И сколькото в стихах моих звуча, Понятней будет им твой блеск победный. 76 Свет был так резок, зренья не мрача, Что, думаю, меня бы ослепило, Когда я взор отвел бы от луча. 79 Меня, я помню, это окрылило, И я глядел, доколе в вышине Не вскрылась Нескончаемая Сила. 82 О щедрый дар, подавший смелость мне Вонзиться взором в Свет Неизреченный И созерцанье утолить вполне! 85 Я видел – в этой глуби сокровенной Любовь как в книгу некую сплела То, что разлистано по всей вселенной: 88 Суть и случайность, связь их и дела, Все – слитое столь дивно для сознанья, Что речь моя как сумерки тускла. 91 Я самое начало их слиянья, Должно быть, видел, ибо вновь познал, Так говоря, огромность ликованья. 94 Единый миг мне большей бездной стал, Чем двадцать пять веков – затее смелой, Когда Нептун тень Арго увидал.[1912] 97 Как разум мой взирал, оцепенелый, Восхищен, пристален и недвижим И созерцанием опламенелый. 100 В том Свете дух становится таким, Что лишь к нему стремится неизменно, Не отвращаясь к зрелищам иным; 103 Затем что все, что сердцу вожделенно, Все благо – в нем, и вне его лучей Порочно то, что в нем всесовершенно. 106 Отныне будет речь моя скудней, – Хоть и немного помню я, – чем слово Младенца, льнущего к сосцам грудей, 109 Не то, чтоб свыше одного простого Обличия тот Свет живой вмещал: Он все такой, как в каждый миг былого; 112 Но потому, что взор во мне крепчал, Единый облик, так как я при этом Менялся сам, себя во мне менял. 115 Я увидал, объят Высоким Светом И в ясную глубинность погружен, Три равноемких круга, разных цветом. 118 Один другим, казалось, отражен, Как бы Ирида от Ириды встала; А третий – пламень, и от них рожден.[1913] 121 О, если б слово мысль мою вмещало, – Хоть перед тем, что взор увидел мой, Мысль такова, что мало молвить: «Мало»! 124 О Вечный Свет, который лишь собой Излит и постижим и, постигая, Постигнутый, лелеет образ свой! 127 Круговорот, который, возникая, В тебе сиял, как отраженный свет, – Когда его я обозрел вдоль края, 130 Внутри, окрашенные в тот же цвет, Явил мне как бы наши очертанья; И взор мой жадно был к нему воздет.[1914] 133 Как геометр, напрягший все старанья, Чтобы измерить круг,[1915] схватить умом Искомого не может основанья, 136 Таков был я при новом диве том: Хотел постичь, как сочетаны были Лицо и круг в слиянии своем; 139 Но собственных мне было мало крылий; И тут в мой разум грянул блеск с высот, Неся свершенье всех его усилий. 142 Здесь изнемог высокий духа взлет; Но страсть и волю мне уже стремила, Как если колесу дан ровный ход, 145 Любовь, что движет солнце и светила[1916].[1917] ПРИМЕЧАНИЯ В 1292–1293 гг. Данте отобрал часть стихотворений, написанных им в период с 1283 по 1292 г., и, перемежая стихи прозой, создал необычное для своего времени произведение – «Новую Жизнь» («Vita Nuova»). Данте уже был признанным стихотворцем, но необычность этой повести о любви – не в новом слове в поэзии, которого он еще не сказал, не в смешанном жанре «книжицы» (в средневековой литературе опыты чередования стихотворных и прозаических текстов были известны и ранее), а в той лирической задушевности, в той искренности рассказа, которые придали сочинению молодого флорентийца необходимую плавность и органичность. Впервые «Vita Nuova» была издана в Риме в 1513 г. Наиболее известно второе издание (Сермарчелли), вышедшее в Венеции в 1576 г. «Новая Жизнь» дает возможность проследить развитие ее автора как поэта. В первых стихотворениях книги чувствуется влияние на юного Данте провансальских лириков и их итальянских преемников – поэтов сицилийской школы. Язык их возвышенно условен, внешне изыскан, стиль нарочито сложен; идеал любви раненного Амуром поэта – в стремлении преданно служить прекрасной даме; основная тема – страдания влюбленного, которому предмет его воздыханий не отвечает взаимностью. Стихи, воспевающие Беатриче, знаменуют новый этап в поэзии Данте, теперь уже представителя «Нового сладостного стиля», поэтической школы, проповедующей возвышенную любовь к женщине – небесному созданию и отождествляющей такую любовь с благородством (понятие благородства поэты новой школы связывают не с происхождением, а с личными качествами человека). Прозаический текст «Новой Жизни» распадается на собственно повествование и комментарий к стихам, изобилующим аллегориями. Впервые на русский язык лирическую исповедь раннего Данте перевел А. Федоров (1895). Примечательна история второго перевода «Новой Жизни»: он был напечатан в 1918 г. в красноармейской типографии г. Самары. Следующий перевод, принадлежащий А. Эфросу, вышел первым изданием в 1934 г.
«Комедию» (Commedia) – венец своего творчества – Данте начал приблизительно в 1307 г. и закончил в 1321 г. Впервые в завершенном виде она вышла изпод пера переписчика в Болонье в 1322 г., уже после смерти поэта. В числе первых комментаторов «Комедии» были сыновья Данте Якопо и Пьетро. Эпитетом «божественная» (divina) поэма обязана Боккаччо, написавшему биографию Данте и прокомментировавшему семнадцать песен «Ада», но заглавие, под которым она дошла до нас, стало каноническим лишь начиная с венецианского издания 1555 г. (первое печатное издание «Комедии» восходит к 1472 г.). Завершая «Новую Жизнь», Данте писал о своем намерении сказать о Беатриче «то, что никогда еще не говорилось ни об одной». Примерно четырнадцать лет спустя поэт приступил к созданию своего основного произведения, в котором вновь зазвучало дорогое ему имя. Но за эти долгие годы судьба Данте резко изменилась, во многом изменив его самого и его отношение к миру. Изгнав из своих стен Данте, неблагодарная Флоренция приговорила к изгнанию и его детей, которым суждено было покинуть родной город, как только они достигнут четырнадцатилетнего возраста. Оскорбив сердце поэта, Флоренция оскорбила и его самолюбие. И тогда своими философскими и литературными сочинениями Данте решил снискать себе и, следовательно, Флоренции, чьим сыном он был, такую славу, в лучах которой он мог бы беспрепятственно вернуться на родину (в 1315 г. в «Письме флорентийскому другу» поэт писал о пути на родину, «приемлемом для славы и чести Данте»: «И если ни один из таких путей не ведет во Флоренцию, значит, во Флоренцию я не вернусь никогда!»). Под напором пережитого за первые пять лет изгнания Данте начал писать «Божественную Комедию» уже не как сочинение во славу Беатриче, а как поэму во славу Флоренции. «Комедия» Данте – это произведение о нем самом и о его времени, которое Энгельс определил как «конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры».[1918] Путь автора поэмы от порога Ада до высот Эмпирея – это путь к внутреннему совершенству, путь к Правде, ступить на который он призывает всех. Многие современники осуждали Данте за то, что он написал свою поэму не на латыни. Но Данте хотел, чтобы «Комедия» стала достоянием не только ученых мужей (кстати, один из таких мужей, Маттео Ронто, перевел в XV в. «Комедию» на латинский язык), но и простых итальянцев, – вот почему он создал ее на народном языке (volgare). Трудность «Комедии», ее многослойность, аллегоричность, насыщенность реалиями, историческими персонажами, именами «простых смертных» – современников Данте, содержащиеся в поэме сведения из самых различных областей средневекового знания, науки, обусловливают необходимость подробного комментария к ней. Над комментариями к дантовскому шедевру трудились многие поколения итальянских и иностранных ученых. Сложность их работы заключалась в нередких разночтениях первых манускриптов (автограф «Комедии» не сохранился). О трудностях, стоящих на пути ученого, свидетельствует замечательное исследование итальянского филолога Дж. Петрокки, сличившего около 700 манускриптов «Божественной Комедии» XIV в. и подготовившего в 1966 г. новое критическое издание поэмы Данте в четырех томах, первый том которого целиком занимает предисловие. В России «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени»,[1919] как называл Данте Энгельс, известен около двухсот лет (впервые его имя упоминается в 1762 г. в статье С. Домашнего «О стихотворстве»). Опыт первого перевода «Комедии» на русский язык принадлежит перу современника А. С. Пушкина – П. А. Катенина. «Комедия» много раз переводилась и частями и целиком. Известны переводы Д. Д. Минаева, О. Н. Чюминой. Самым значительным из полных стихотворных переводов поэмы Данте, вышедших до революции, был перевод Д. Мина (1855; 1902–1906), получившего за него в 1907 г. Пушкинскую премию. Образец русских терцин дал А. С. Пушкин в двух подражаниях Данте. На этот образец и ориентировался лучший русский переводчик «Комедии» М. Лозинский («Ад» – 1939 г., «Чистилище» – 1944 г., «Рай» – 1945 г.), работа которого была отмечена в 1946 г. Государственной премией. Евгений Солонович [1] «НОВАЯ ЖИЗНЬ»Стр. 19. В том месте книги памяти моей… – «Книга памяти» – не простая метафора: это выражение необходимо воспринимать, учитывая принятые в средние века аллегорические связи книги («книга сердца», «книга духа», «книга разума»), восходящие к ветхозаветному образу «книги жизни». Данте хочет с первых же слов создать атмосферу возвышенной духовности. «Память» – опятьтаки в усиленном смысле; в соответствии с традиционным религиозным словоупотреблением средневековья имеется в виду постоянное интенсивное переживание. «Сладостная память Иисуса» на языке богословов созерцательномистического направления (например, Бернарда Клервоского, которому отведена огромная роль в «Рае» Данте) означает непрерывную концентрацию воображения на имени Иисуса, его страстях и т. д., ведущую к душевному просветлению. Но видение страстей Христовых – прообраз, определяющий построение всей книги Данте (см. прим. к гл. XXIII), а просветление – ее центральный мотив. [2] Начинается новая жизнь (лат.). Incipit – традиционная начальная формула средневековых рукописей. …vita nova. – Высказывалось много догадок о том, как следует понимать слово «nova»: «новая», «обновленная» или «молодая» жизнь? Это центральное понятие книги Данте, предваряющее все ее содержание, намеренно многозначно. Оно выражает: смену одного периода жизни другим (реальный план); обновление, связанное с культом дамы сердца и осмысляемое в согласии с нормами любовного этикета, как его разработала провансальская культура (второй план – стилизация жизненных событий); наконец, духовное перерождение в религиозном его понимании, в духе слов апостола Павла: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (Второе послание к коринфянам, гл. 5, 17; в его же Послании к римлянам, гл. 6, 4, выражение «обновленная жизнь»), чем дается высший, философский план. Обновление в «Vita Nuova» совершается по ступеням – от земной действительности первой главы через очищение к созерцанию рая в последних главах, что предвосхищает концепцию будущей «Божественной Комедии». [3] …я нахожу записанными слова… – «Слова» надо понимать повсюду в смысле стихов. Поэтические произведения, вошедшие в состав «Новой Жизни», создавались Данте на протяжении ряда лет – с 1283 по 1292 г. [4] …если и не все, то, по крайней мере, смысл их. – Данте выбрал только часть своих поэтических произведений и расположил их строго симметрично: если не считать первого, вводного, сонета и заключительного, все остальные произведения разбиты на три группы соответственно из девяти, десяти и десяти стихотворений. В центре первой группы – баллада, обрамленная сонетами (четыре ей предшествуют и четыре следуют за ней); вторую группу открывает канцона, за которой следуют восемь сонетов и одна канцона, занимающая место баллады первой группы; в третьей группе канцона предшествует восьми сонетам и одной канцоне. Это деление вполне отвечает и содержанию книги. [5] IДевять раз уже… – Число «девять» играет большую роль в книге: это число Беатриче. Данте в главе XXIX объясняет его смысл. Символика чисел пронизывала всю средневековую культуру и связывалась с философскими, богословскими и космологическими представлениями. Данте усиливает смысл «девятки» тем, что девять раз называет это число в связи с датами. [6] …обернулось небо света… – Согласно общепринятому в средние века космологическому учению Птолемея, Землю окружает девять сфер (небес): сферы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, затем небо неподвижных звезд и прозрачное Хрустальное небо – Перводвигатель. Небо света – сфера Солнца: поскольку Данте говорит, что оно обернулось девять раз , начало повествования можно отнести к маю 1274 года (Данте родился в мае 1265 г.). [7] …как бы в собственном своем вращении… – Вращение небесных сфер происходит под влиянием Перводвигателя. [8] …которую называли Беатриче многие, не знавшие, что так и должно звать ее. – Имя «Беатриче» означает «благодатная». Это место можно понять так: многие называли Беатриче «благодатной» (beatrice), не зная, что это и есть ее имя, или: многие, знавшие ее имя (Beatrice), не понимали, что она есть «благодатная». Если Данте имел в виду реальное историческое лицо, то это была дочь Фолько Портинари, весьма видного флорентийского гвельфа, занимавшего важные посты в городе, и жена Симоне деи Барди. Об этом сообщил Боккаччо в своих флорентийских комментариях к «Божественной Комедии» в 1373 г., то есть через пятьдесят два года после смерти Данте. [9] …звездное небо передвинулось в сторону востока на одну из двенадцати частей градуса… – Звездное небо, помимо вращения вокруг своей оси, движется с запада на восток, передвигаясь на один градус в сто лет. Поэтому Беатриче было примерно восемь лет и четыре месяца, когда ее встретил Данте. [10] …в благороднейший алый цвет… – Это один из цветов богоматери, символизирующий небесную любовь. В алых цветах Беатриче является поэту и в XXXIX главе. [11] Дух Жизни. – Говоря о «Духе Жизни» и, ниже, о «Духе Животном» и «Духе Природном», Данте следует (давая местами пересказ, местами прямой перевод) трактату «О душе», написанному, вероятно, Гуго из СенВиктора (1096–1141). По классификации Гуго, могут быть выделены три силы души: природная (vis naturalis), жизненная (vis vitalis) и животная (vis animalis); их средоточия – соответственно печень и кровь, сердце, мозг. [12] …в сокровеннейшей светлице моего сердца… – Боккаччо в комментарии к этому месту говорит: «…есть в сердце потаенная часть, всегда обильная кровью, где, согласно высказанному коекем мнению, пребывают жизненные духи и откуда, как из неиссякаемого источника, подаются в жилы та кровь и тепло, которые растекаются по всему телу; этато часть и есть убежище всех наших влечений…» [13] Вот бог сильнее меня, кто, придя, получит власть надо мной (лат.). [14] Стр. 20. …Дух Животный… обратившись особливо к Духам Зрения… – У Гуго сказано: «Дух Животный… придает бодрость пяти телесным чувствам». [15] Вот уже появилось ваше блаженство (лат.). [16] Горе мне, ибо впредь часто я буду встречать помехи! (лат.) [17] …слова стихотворца Гомера… – См. «Илиаду», III, ст. 158 (о Елене). Скорее, однако, имеется в виду «Илиада», XXIV, ст. 259: Так, не смертного мужа казался он сыном, но бога! Это место было известно Данте по цитате из Аристотеля («Никомахова этика», VII, 1), которого он изучал в латинском переводе: греческий текст Гомера был ему недоступен. [18] II…облаченной в белоснежный цвет… – Белый цвет – цвет чистоты и вместе с тем небесной радости. В белых одеждах является Данте и «отрок» (Любовь) в главе XII. Итак, цвета любви Данте – алый и белый (горение и чистота): с подчеркнутой симметрией каждый из этих цветов появляется дважды – один раз в реальном плане, второй – в видении. [19] Стр. 20–21. …мне показалось тогда, будто вижу я предел блаженства. – Поклон – символ любви в соответствии с любовным кодексом поэзии трубадуров. Все это место чрезвычайно важно для понимания концепции «Новой Жизни»: здесь описывается первая, низшая, ступень любовного просветления. Средневековая мистика различает три ступени созерцания: когда предмет созерцания находится вне нас , когда он в нас и когда он над нами. Те же ступени проходит душа Данте. На первой ступени все кажется реальным и земным: поэтому и повествование сохраняет большую степень конкретности, символическое значение событий еще не подчеркивается прямо. [20] Стр. 21. …я испытал такую сладость, что словно опьяненный покинул людей… – Сознание поэта последовательно проходит стадии освобождения от реальности («опьянение», сон), чтобы отдаться охватывающим его видениям: Данте следовал традиции, созданной средневековыми мистиками, которые делали записи о своих экстазах. В видениях Данте вновь являются уже пережитые события, но в обобщенном, символическом виде. Прозаическое повествование «Новой Жизни» постоянно и очень ритмично перемежает план реальности и план видений, где реальные события еще раз подвергаются переосмыслению. [21] III…я различил облик некоего мужа… – Любовь здесь имеет мужской облик, как и у всех поэтов круга Данте. И поитальянски и полатыни «любовь» мужского рода. [22] Я твой повелитель (лат.). [23] Взгляни на сердце свое (лат.). [24] …понудил ее съесть тот предмет, который пылал в его руке… – Мотив, встречающийся в поэзии разных народов; он разрабатывался и в старопровансальской поэзии, где первоначальное понимание его как магического акта было утрачено. В этом случае аллегорический смысл мотива тоже не вполне ясен. [25] …час, в который явилось мне это видение, был четвертым часом той ночи, из чего ясно видно, что тот был первый час последних девяти часов ночи. – Число «четыре» в эпоху Данте считалось несчастливым. Это означает, что сон Данте был неспокойным, тяжелым, кошмарным. Столкновение «четырех» и «девяти» говорит о противоречивости, сбивчивости видения. Состояние страха обычно для этого первого времени любви Данте. Все это свидетельствует о неочищенности его стремлений и их греховности. [26] Стр. 21–22. …прося их истолковать мое видение… – Практика такого обмена стихотворениями, нечто вроде конкурса на лучший сонет, была широко распространена, но в эпоху Данте как раз стала выходить из моды. В ответ Данте сонеты написали Гвидо Кавальканти, которого Данте в дальнейшем называет «своим первым другом», Чино да Пистойя (или Террино дель Кастельфьорентино) и Данте да Майано (последний в своем сонете глумился над Данте). [27] Стр. 22. …сонет… «Чей дух пленен». – Сонет по форме состоит из двух катренов (четверостиший), в которых чередуются две рифмы, и двух терцетов (трехстиший) с двумя или тремя рифмами. Сонеты «Новой Жизни» дают много примеров допустимых вариантов рифмовки. Размер в итальянской поэзии – одиннадцатисложник. [28] Этот сонет делится на две части… – В состав «Новой Жизни» как неотъемлемая принадлежность ее структуры входят комментарии к стихотворениям, так называемые «подразделения». Цель их в том, чтобы разложить произведения на части, обозначить явное, лежащее на поверхности, и тем самым упростить подступы к пониманию внутреннего, поэтического смысла. Подобные подразделения часты в средние века. [29] Истинный смысл описанного сна не был разгадан тогда никем… – Смысл сна связан с общим композиционным замыслом произведения: сон Данте, как он описан в сонете, есть отдаленное провозвещение грядущего апофеоза Беатриче. Этого смысла сонет, конечно, не мог иметь в пору создания, но приобрел его, став частью «Новой Жизни». [30] VСтр. 23. …там, где раздаются слова о Царице славы… – то есть в церкви во время богослужения. Царица славы – богоматерь. [31] VI…в форме сервентезы… – Сервентеза, буквально «служебная песня», – жанр, развившийся в старофранцузской поэзии, первоначально хвалебного или порочащего содержания. В итальянской поэзии границы этой формы были определены менее точно. Сервентеза Данте не сохранилась, и о ней ничего не известно. Возможно, все это место нужно понимать аллегорически: ведь число «девять» вновь сопровождает Беатриче. [32] VIIСтр. 24. …сонет… «О вы, что жизнь». – Это так называемый «двойной сонет», являющийся расширением формы простого: после каждого нечетного стиха катрена вставляется еще один семисложный стих, то же и после четного стиха каждого терцета. Данте пишет в трактате «О народной речи» (кн. II, гл. 5): «Одиннадцатисложный размер самый знаменитый из всех остальных; если же соединяется с семисложным, сохраняя за собой первенство, то блистает еще ярче и сильнее». [33] Все проходящие путем! Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь (лат.). Стр. 25. «О vos omnes…» – «Плач Иеремии» (гл. 1, 12). Данте все время поддерживает ассоциативную связь между любовными и теологическими представлениями. [34] VIII…угодно было владыке ангелов призвать ко славе своей некую донну… – Мотив смерти Беатриче (гл. XXVIII) в строгой последовательности подготавливается смертью подруги, затем отца (гл. XXII) и пророческими видениями о кончине ее самой (гл. XXIII). [35] Стр. 26. Смерть лютая, врагиня состраданья… – В композиционном замысле книги это место контрастирует с просветленным отношением к «сладчайшей смерти» (в гл. XXIII). Тема «поношения смерти» стала традиционной уже у поэтов сицилийской школы. [36] XСтр. 28. …отказала мне в сладчайшем своем поклоне, в котором заключалось все мое блаженство. – Поскольку поклон – символ любви, в первом разделе книги отказ в поклоне подготавливает душевный перелом Данте, после которого он будет искать образ любви «в себе». [37] XI…Дух Любви… – Поэты XIII века любили персонифицировать не только чувства, но и самые разные свойства и качества; например, Гвидо Кавальканти вместо «скуки» говорит о «Духе скуки». Тенденция эта появилась под влиянием философских занятий. [38] XIIСын мой, пришел срок расстаться с нашими ложными подобьями (лат.). [39] Я подобен центру круга, от которого равно отстоят окружающие его части; ты же не таков (лат.). Стр. 29. «Ego tamquam centrum…» – Конкретный смысл этого образа ясен: душа Данте все еще пребывает в смятении и смущении, поэтому ее нельзя было бы представить в виде круга с центром, то есть в виде идеальной по симметричности фигуры. Происхождение этого образа у Данте неизвестно. [40] Стр. 30. …я решил… сочинить балладу… – Баллада – лирический жанр, тесно связанный с музыкой (баллады исполнялись всегда с музыкальным сопровождением, ср. ст. 5–7). Баллада Данте состоит из вступительной строфы и четырех строф с одинаковым расположением рифм. По содержанию это обращение к Балладе; подобным же образом позже олицетворяются канцона и сонет. [41] Стр. 31. …эту неясность я намереваюсь устранить и разъяснить в еще более неясной части этой книжки… – Повидимому, речь идет о главе XXV, где Данте специально обосновывает свое право на персонификации примерами из римских классических поэтов. [42] XIIIИмена суть производные вещей (лат.). Стр. 32. «…Nomina sunt consequenia rerum». – В представлении средневекового человека между сущностью вещи и ее именем существовала внутренняя связь: отсюда вера в возможность познать вещь, идя от ее наименования. Сам Данте намечает мистическую связь между именами Беатриче (гл. I) и ДжованныПримаверы (гл. XXIV) и их носительницами. [43] XIVСтр. 34. Я сделал шаг в ту часть жизни, где нельзя уже идти далее, ежели хочешь воротиться – Здесь и далее идея любви сближается с идеей смерти: это подготавливает изображение (в гл. XXIII) душевного кризиса поэта, из которого он выйдет возрожденным к новой жизни. Это единство любви и смерти, смерти и духовного обновления – как бы символическое сопереживание смерти и воскресения Христа в формах своей собственной жизни. По мере развертывания замысла книги ассоциация между любовным переживанием поэта и привычными теологическими образами делается все определеннее. Идея, лежащая в основе этого уподобления судьбы Христа и судьбы человека в его духовных исканиях, восходит к Новому завету: «…как Христос воскрес из мертвых…, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху…» (апостол Павел, Послание к римлянам, гл. 6, 4–6). [44] XVСтр. 35. И вот лицо цвет сердца отражает… камень… взывает… – При виде Беатриче кровь отливает от сердца, бледнеет лицо, поэт прислоняется к стене, и ее камни в смятении кричат о его гибели. [45] XVIIIСтр. 38. …те слова, которые ты сложил, изъясняя свое состояние, были бы употреблены тобой с какимто иным смыслом. – Донны указывают Данте на иносказательный смысл всей предыдущей лирики «Новой Жизни», который самому поэту на первой ступени любви не был еще ясен. [46] Стр. 38–39. …я решил избрать предметом моих слов отныне только хвалу Благороднейшей… – Это решение начинает второй, более высокий этап в жизни Данте; отныне любовь к Беатриче не столько любовь к земному существу, сколько к идее совершенства и благодати. Конец главы XVIII есть вместе с тем и конец первого большого раздела «Новой Жизни». [47] XIXСтр. 39. …и я подумал, что не пристало мне говорить о ней иначе, как обращаясь к доннам во втором лице… – Поскольку Беатриче теперь скорее образ в душе Данте, чем реальный человек, он не может обратиться прямо к ней. [48] Канцона – В трактате «О народной речи» (кн. II, гл. 8) Данте пишет: канцоны «являются трагическим соединением равных и связанных одной мыслью стансов без ответных строф…». В каждом из пяти стансов одинаковое расположение рифм. [49] О донны, вам, что смысл Любви познали… – Эта канцона была по справедливости расценена современниками как высокое поэтическое откровение. Это классический образец «нового сладостного стиля», и хронологически она открывает ряд поэтических шедевров Данте. Новая часть «Новой Жизни» начинается с произведения, ознаменовавшего начало нового периода творчества Данте. [50] Не склонен Рай к иному вожделенью, как сочетать ее своей судьбе. – Вновь предсказания смерти и воскресения Беатриче. [51] Стр. 40. …с тем, кто расскажет аду: «Племя злых, я видел упование благих». – Предвосхищение будущего замысла «Божественной Комедии». [52] XXСтр. 42. Благое сердце и Любовь – одно… – В подлиннике – сердце «благородное», «изящное». Любовь как единственный источник душевной утонченности – положение, разработанное провансальской лирикой и принятое итальянской школой «нового сладостного стиля». [53] XXIСтр. 43. В своих очах Любовь она хранит… – Данте нигде не описывает облик Беатриче. Этот сонет особенно характерен как выражение достигнутой поэтом второй ступени любви, когда реальный образ исчез и описывается только впечатление, которое Беатриче производит на других, а в общем, это впечатление сводится к одному – к блаженству. [54] XXIIСтр. 44. …тот, кто был родителем столь великого чуда… истинно отошел к вечной славе. – Если Беатриче историческое лицо, то имеется в виду смерть Фолько Портинари (1289). [55] XXIIIСтр. 46. После этого спустя немного дней… – Глава XXIII – кульминация, смысловой центр всего повествования: здесь – критический момент душевного пути Данте. Видение Данте сосредоточивает в себе всю символику, подготавливающуюся на протяжении первой половины книги, и открывает новые горизонты (пророчество о смерти и блаженстве Беатриче). Здесь достигает апогея (за которым следует разрешение) единство идеи любви и идеи смерти: Беатриче должна умереть, чтобы сподобиться небесного блаженства, но и прежний Данте должен умереть, чтобы духовно возродиться (ср. прим. к гл. XIV). Религиозный иносказательный смысл «Новой Жизни», проходящий через всю книгу, здесь впервые проявляется с полной ясностью и отчетливостью. Центральный характер главы подчеркнут и тем, что в нее входит вторая канцона – поэтический центр симметрии всего произведения в целом (см. прим. к вступлению). [56] Стр. 47. …на девятый день… – Упоминание «девяти» говорит о благостности видения. [57] …и казалось мне, будто вижу я, что солнце потухло… и что происходили величайшие землетрясения. – Картина природы, которая была в день смерти Христа, по описанию евангелиста Матфея (гл. 27, 51), евангелиста Луки (гл. 23, 44–45). Сходные образы – в апокалипсических видениях св. Иоанна Богослова (гл. 6, 12–14) и у пророка Иеремии, которого Данте вспоминает особенно часто (гл. 4, 23–25). Образы Беатриче и Христа соединяются и сливаются в воображении Данте; в образе Беатриче здесь ничего уже не осталось от земной женщины. [58] …показалось, что я вижу множество ангелов – новое видение вознесения Беатриче. В его основе лежит привычный для всего религиозного искусства мотив вознесения богоматери: Беатриче сближается не только с Христом, но и с Марией. Данте еще испытывает горечь и печаль, что соответствует неполноте достигнутого им просветления: ему трудно отрешиться от земного облика Беатриче. [59] Слава в вышних (лат.). «Osanna in excelsis». – Этим возгласом народ встречал Иисуса, въезжающего в Иерусалим (Евангелие от Матфея, гл. 21, 9). Возглас этот никак нельзя обратить к земному лицу, что говорит о полном обожествлении Беатриче в этом видении Данте. [60] Стр. 48. …меня объяло такое смирение от созерцания ее – переломный момент видения Данте, который достигает третьей ступени созерцания и которому даруется благодать. [61] Сладчайшая смерть, приди ко мне… – Еще не достигнув просветления, Данте называл смерть «лютой» (четвертый сонет) и «хулил» ее (гл. VII). Теперь «Последний же враг истребится – смерть» (апостол Павел, Первое послание к коринфянам, гл. 15, 26). Смерть становится желанной, как условие полного соединения с предметом любви (апостол Павел, Второе послание к коринфянам, гл. 5, 8): «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа», и начало новой, подлинной жизни (Первое послание к коринфянам, гл. 15, 54); «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою» (Исайя, 25, 8). Благодать, нисходящая на душу Данте, достигается им пока крайним напряжением всех душевных сил, еще пройдет время, пока Данте не удостоится ее вполне. [62] Стр. 49. Младая донна, в блеске состраданья… – Эта канцона повторяет видение Данте, но, как и полагается, в очищенном, выпрямленном, более последовательном виде, так что смысл символов становится еще яснее. [63] XXIVСтр. 51. …мне явилась в воображении Любовь… – Радостный характер видения отмечает третью ступень созерцания, достигнутую Данте. Отныне его мысли направлены к райскому блаженству: объект созерцания уже не вне его и не в нем, но над ним (см. прим. к гл. II). [64] …некогда была донной первого моего друга – то есть донной Гвидо Кавальканти. [65] Примавера – поитальянски значит «весна», «prima verra» – «первая пройдет». Данте обыгрывает созвучие, аллегорически переосмысляя прозвище Джованны, чтобы подчеркнуть нужный ему образ. [66] Имя же этой донны было Джованна, но по причине ее красоты, как думают иные, ей дано было имя Примаверы; так и звали ее. – Вся эта фраза соответствует следующей из гл. I: «…моим очам явилась впервые преславная госпожа моей души, которую называли Беатриче многие, не знавшие, что так и должно звать ее». [67] Стр. 52. …названа она Джованна по тому Иоанну, который предшествовал истинному свету… – Истинный свет – Христос; выражение заимствовано из Евангелия от Иоанна (гл. 1, 9): «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Данте хочет сказать, что Джованна (то есть Иоанна) находится в том же отношении к Беатриче, в каком Иоанн Креститель находился ко Христу. [68] Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу (лат.). «Ego vox clamantis». – Так Иоанн Креститель отвечал фарисеям, спрашивавшим, кто же он (Евангелие от Иоанна, гл. 1, 23). [69] …и монну Ванну с монной Биче я узрел идущими… – Единственный раз, когда Данте называет Беатриче уменьшительным именем, что рассматривается как одно из доказательств ее исторического существования. [70] XXVСтр. 53. …я говорю о Любви так, словно она существует сама по себе… – Данте посвящает главу XXV оправданию своей персонификации Любви; делает он это, конечно, только относительно буквального словоупотребления, не касаясь внутреннего, аллегорического смысла образа. Свое употребление Данте оправдывает античной поэтической традицией. [71] …не только как мыслимая субстанция… согласно истинному учению… – Данте хочет сказать, что «любовь» – это не «предмет» одушевленный или неодушевленный, но лишь «состояние» предмета. Под истинным учением Данте разумеет учение Фомы Аквинского (1225–1274) и других авторитетов поздней схоластики. [72] …в пространстве же движется, согласно Философу, лишь тело… – «Философ» – так обычно в средние века именовался Аристотель. О движении трактует пятая книга его «Физики». Данте мог познакомиться с этим положением из Фомы Аквинского («Сумма теологии», I, 7, 31). [73] …в старину не было воспевателей любви на языке народном… – Языком народным Данте называет итальянский язык в противоположность латинскому; под «стариной» он понимает предшествующие ему семьвосемь веков. Все это время книжная литература создавалась почти исключительно на латинском языке. [74] …у нас… может быть, и у других народов… произошло то же самое, что было в Греции… – Данте считает, что лирики античной Греции, где не существовало противоположности между народным языком и языком литературы и науки, принадлежали к числу «ученых» поэтов. [75] …прошло лишь немного лет, с тех пор как впервые появились эти народные поэты… – Поэзия на итальянском языке появилась всего за несколько десятилетий до Данте. [76] …на языке «ос» или на языке «si»… – «Ос» и «si» – утвердительные частицы, первая – провансальского языка, вторая – итальянского. Данте пользуется ими как названиями языков. Поэзия на провансальском языке началась раньше – с середины XI в. Обо всех этих вопросах Данте подробнее говорит в трактате «О народной речи». [77] …некоторые невежды снискали славу умеющих сочинять – выпад против поэтов тосканской школы, о которых Данте столь же уничижительно отзывается и в «Божественной Комедии». [78] Стр. 54. …в осуждение тем, которые слагают рифмы и о чемлибо другом, кроме любви… – В эпоху создания «Новой Жизни» Данте допускал, что на народном языке можно сочинять только любовные стихи, чтобы быть доступным. Позже его взгляды совершенно изменились. [79] …ежели какаялибо риторическая фигура или украшение дозволены поэтам, то они дозволены и слагателям рифм. – Поэтами Данте именует пользующихся латинским языком, слагателями рифм – пользующихся народной речью. [80] …в первой книге «Энеиды»… – «Энеида», I, 65, 76. [81] Эол, ведь тебе… (лат.) [82] Всего, что хочешь, царица, требовать – дело твое, а мое – исполнить веленье (лат.). [83] …вещь неодушевленная говорит вещам одушевленным в третьей книге «Энеиды»… – С приведенными словами делосский оракул обращается к Энею (III, 94). [84] Стойкие дарданцы (лат.). [85] У Лукана… – «Фарсалия», I, 44. [86] Все же гражданской войне ты, Рим, немало обязан (лат.). [87] Муза, поведай ты мне о муже… (лат.) …он говорит их… в этом месте своего «Поэтического искусства»: «Die mihi, Musa, virum…» – Это перевод двух первых стихов «Одиссеи» Гомера, включенный в послание Горация (ст. 141) к Писонам, известное под названием «Поэтическое искусство». [88] Молвит: «Готовят мне бой, вижу, готовят мне бой» (лат.). «Bella mihi». – См. «Средства от любви», ст. 2. [89] XXVIII Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал как вдова, великий между народами (лат.). Стр. 58. «Quomodo sedet…» – Этими словами начинается «Плач Иеремии» (гл. 1, 1). [90] Я был… за сочинением этой канцоны… – Канцона остается без конца – новые события обрывают ее, но в то же время ее начало превращается в почти правильный сонет, который не может нарушить симметрию внутри закончившейся группы из восьми сонетов с центральной канцоной. Предыдущая глава оканчивает второй раздел «Новой Жизни». Эта строфа ничем не отличается от простого сонета, кроме лишь того, что один стих (одиннадцатый) – семисложник. [91] …стоит лишь заглянуть во вступление, которое предшествует этой книжице… – Данте рассказывает в книге о своей «обновленной жизни», но смерть Беатриче уже пережита им (в видении) и в этом смысле не добавляет нового к переживаниям поэта. [92] …не пристало мне рассказывать об этом, потому что, рассказывая, пришлось бы мне восхвалять самого себя… – Неясное место. Может быть, речь идет о какихто неизвестных событиях, связанных со смертью исторической Беатриче, но, возможно, Данте имеет в виду то, что ему было заранее дано увидеть вознесение Беатриче. Но главная причина, почему Данте не рассказывает здесь о смерти Беатриче, формально композиционная: ведь он уже два раза описывал ее в своих видениях. [93] XXIX…по счислению Аравийскому… – Арабское летосчисление было известно Данте из латинского перевода арабского трактата «Астрономические элементы» Альфрагануса (Фергани). [94] …совершеннейшее число – десять. [95] Стр. 59. …была же она из христиан тринадцатого столетия. – Если расшифровать все эти даты, то оказывается, что Беатриче умерла в первом часу ночи с восьмого на девятое июня 1290 г. [96] …это число было ею самой… – Это центральный тезис книги Данте, к которому он постепенно подводил и который он окончательно доказывает в этой главе. В третьем, последнем, разделе книги Беатриче предстает как олицетворение благости, что и символизируется числом «девять». [97] XXX…остался названный город весь словно бы вдовым… – Реминисценции уже цитированного «Плача Иеремии». [98] …написал старейшинам страны… – Мнения расходятся о том, как следует понимать слово «terra», – как город, страну или землю. Составление письма, адресованного владыкам мира, в качестве литературного упражнения не было бы чемто необычайным во времена Данте, но, вероятнее, это оборот речи, навеянный библейскими образами. [99] …взяв началом слова пророка Иеремии, которые гласят: «Quomodo sedet…» – Сохранилось одно письмо Данте (от 1314 г.) с таким же началом и написанное также полатыни. То же послание, о котором говорит Данте, не дошло до нас, если и было написано. [100] XXXI Стр. 60. …для того, чтобы эта канцона… казалась одинокой, словно вдова… – Вновь персонификация – и на этот раз наиболее далеко идущая – литературной формы. Уподобление вдове – все тот же образ из Иеремии. [101] …я дам ей подразделенья прежде, нежели напишу ее самое. – В тех немногих случаях, когда Дайте особенно заботится о непосредственном эмоциональном впечатлении своей поэзии, он предпосылает стихам «подразделение»: здесь ему хочется усилить настроение печали, оставленности, «вдовства». [102] Стр. 61. …всемилости полна… – Собственно, «благодатная» – слова, которые приличествуют только в обращении к деве Марии (из католической молитвы «Ave, Maria, gratia plena» – «Радуйся, благодатная Мария»). [103] XXXIV Стр. 65. …тогда сочинил я следующий сонет… в котором два начала… – Если читать сонет с первым началом, то аллегорическая концепция Данте вполне очевидна, если же читать его со вторым началом, написанным «для других», то действительно этого можно и не уловить. [104] …поэтому я и подразделяю его согласно с одним и согласно с другим. – В дальнейшем Данте либо предпосылает подразделения тексту сонетов, либо не дает их совсем. Вероятно, он поступает так ради последнего сонета, после которого уже невозможны были бы никакие комментарии, и для того, чтобы в этом последнем случае не перебивать ритм повествования внезапной перестановкой частей. [105] XXXV Стр. 66. …увидел одну благородную донну… – Донне Жалости посвящены главы XXXV–XXXVIII. В них отступление от основного направления повествования. Эпизод с донной Жалости отвлекает и самого Данте от мыслей о Беатриче, о чем он позже горько сожалеет. Но это последнее искушение, последнее препятствие: за ним наступает победа, искомое просветление. Последующие главы образуют эпилог: поэт окончательно обретает мир в своей душе и не смущается больше никакими земными страстями. [106] XXXIX Стр. 70. …показалась она мне юной, почти того же возраста, в котором впервые я увидел ее. – Беатриче предстает Данте так, как в первой главе. Таким образом, обе эти главы обрамляют все повествование «Новой Жизни». В этом видении Данте отвлекается и от реального облика Беатриче – она как подлинный символ «девяти» является ему в возрасте примерно девяти лет, как и в первой главе. [107] XL Стр. 71. …благословенный образ, что оставлен нам Иисусом Христом… – В Риме хранится «нерукотворный образ», который, по преданию, отпечатлелся на ткани, поданной св. Вероникой Христу во время шествия на Голгофу. Образ этот можно было увидеть дважды в году: в январе и в дни пасхальной недели. [108] …посредине города, где родилась, жила и умерла благороднейшая Донна… – Историческая Беатриче Портинари жила во Флоренции: Данте сознательно не упоминает названия города. [109] Стр. 72. …кто идет к дому св. Иакова – то есть к храму св. Иакова в Галисии (область в Испании), СантЯго де Компостела, где, по преданию, погребено тело апостола. Гробница св. Иакова особенно почиталась, так что флорентийцы имели обыкновение сначала совершать паломничество в Иерусалим, а потом ко гробу св. Иакова. [110] XLI Стр. 73. …какую Донну, чтимую в выси… – В последнем разделе «Новой Жизни» Данте сближает образ Беатриче с образом девы Марии, а в заключительном сонете сливает их воедино (ср. выше прим. к гл. XXIII). [111] …говорит Философ во второй книге Метафизики . – «Метафизика» Аристотеля (II, 1). [112] Над сферою, что шире всех кружится… – За последней, самой широкой и быстро вращающейся сферой находится Эмпирей, Рай, куда и проник вздох поэта. [113] Стр. 74. …я не мог постигнуть смысла в хитрой притче… – Этим словам, кажущимся образом, противоречат другие: «и тайну слов, о донны, постигал». Поэт хочет сказать, что, не понимая смысла буквального, он понял внутренний, скрытый смысл. [114] XLII…было мне дивное видение… – Данте говорит о замысле будущей «Божественной Комедии» – замысле, к осуществлению которого он приступил только через двадцать с лишним лет после окончания «Новой Жизни». Но в самых общих чертах замысел этих двух произведений сходен: в «Новой Жизни» душа Данте переживает тот же путь внутреннего очищения, оканчивающийся лицезрением вечного блаженства, который она пройдет в «Божественной Комедии» как свидетельница тайн загробного мира. [115] Кто во веки веков благословен (лат.). …qui est per omnia saecula benedictus. – Сходной формулой заканчивается и каждая часть «Суммы теологии» Фомы Аквинского. [116] «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» Сокращения: А. – «Ад». Ч. – «Чистилище». Р. – «Рай». Эн. – Вергилий, «Энеида». Метам. – Овидий, «Метаморфозы». АДПЕСНЬ ПЕРВАЯ Лес – Холм спасения – Три зверя – Вергилий1. Земную жизнь пройдя до половины. – Серединой человеческой жизни, вершиной ее дуги, Данте («Пир», IV, 23) считает тридцатипятилетний возраст. Его он достиг в 1300 г. и к этому году приурочивает свое путешествие в загробный мир. Такая хронология позволяет поэту прибегать к приему «предсказания» событий, совершившихся позже этой даты. [117] 13. К холмному приблизившись подножью. – Над лесом грехов и заблуждений возвышается спасительный холм добродетели, озаряемый солнцем истины (ср. ст. 77–78). [118] 17. Свет планеты. – Согласно Птолемеевой системе мироздания, которой придерживается Данте, Солнце было одной из планет , вращающихся вокруг неподвижной земли. [119] 3840. Те же звезды вновь – звезды созвездия Овна, в котором солнце находится весной, то есть в ту пору года, когда, согласно христианской мифологии, бог сотворил мир и придал движение небесам с их светилами. [120] 3160. Восхождению поэта на холм спасения препятствуют три зверя: рысь (ср. А., XVI, 106–108) – сладострастие, лев – гордость и волчица (ср. Ч., XX, 10–15) – корыстолюбие. [121] 62. Какойто муж – Вергилий (70–19 гг. до н. э.), знаменитый римский поэт, автор «Энеиды». В средние века он пользовался легендарной славой мудреца, чародея и предвозвестника христианства (Ч., XXII, 64–73). В «Божественной Комедии» Вергилий, ведущий поэта через Ад и Чистилище к Земному Раю, – символ разума (Ч., XVIII, 46–48), направляющего людей к земному счастью. [122] 69. Мантуя. – Вергилий родился в Мантуанской области, в местечке Андес, ныне Пьетола. [123] 70. Sub Julio (лат.) – при Юлии Цезаре (убитом в 44 г. до н. э.). [124] 71. Под Августовой сенью – то есть при римском императоре Августе (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.). [125] 74. Сын Анхиза и Венеры – Эней. [126] 91. Ты должен выбрать новую дорогу. – Данте еще не подготовлен к тому, чтобы одолеть волчицу и взойти на отрадный холм. Предварительно он должен посетить три загробных мира. [127] 102. Пес – грядущий избавитель Италии, который победит волчицу, мешающую общественному устроению (Ч., XX, 15). [128] 103. Не прах земной и не металл двусплавный – то есть его не прельстят ни земельные владения, ни сокровища. [129] 105. Меж войлоком и войлоком (tra feltro e feltro). – Старейшими комментаторами толковалось различно, в зависимости от понимания аллегории Пса. В XV в. пророчество о Псе начали относить к Кангранде делла Скала, синьору Вероны (1312–1329 гг.) и главе гибеллинской лиги в Ломбардии, и было предложено новое объяснение спорного стиха: «Между городом Фельтро в Тревизанской марке и замком Монтефельтро в Романье» (так расположена Верона). [130] 107108. Камилла , предводительница вольсков (Эн., VII, 803–817, XI, 532–831), и Турн , вождь рутулов (Эн., XII, 887–952), пали, обороняя Италию от троянцев, а троянские юноши Нис и Эвриал (Эн., IX, 176–449) погибли в борьбе против рутулов, ради завоевания земли, на которой Энею суждено было стать родоначальником римской державы. [131] 117. О новой смерти тщетные моленья. – Грешники в Аду, уже умершие телесной смертью, хотели бы умереть и душой, чтобы прекратились их муки. [132] 122. Душа достойнейшая – Беатриче (см. прим. А., II, 70). [133] 134. Врата Петровы – врата Чистилища. [134] ПЕСНЬ ВТОРАЯ Сомнения Данте. – Ответ Вергилия13. Сильвиев родитель – Эней, который, по рассказу Вергилия (Эн., VI, 236–899), спускался в подземную обитель теней, где его отец Анхиз показал ему души его потомков, поощряя его основать новую державу в Италии. [135] 2425. Преемнику верховного Петра – папе римскому. Он – Эней. [136] 28. Там, вслед за ним, Избранный был Сосуд – то есть апостол Павел, которому легенда приписывала посещение рая и ада. [137] 52. Из сонма тех, кто меж добром и злом – то есть из толпы душ, пребывающих в Лимбе (см. прим. А., IV, 24). [138] 70. Беатриче. – Данте любил ее с детства, и когда она, двадцати пяти лет от роду, умерла (в 1290 г.), он дал в своей «Новой Жизни» обещание «сказать о ней такое, чего никогда еще не было сказано ни об одной». В «Божественной Комедии», оставаясь попрежнему той женщиной, которую он любил на земле, она является символом небесной мудрости и откровения. [139] 71. Из милого мне края – из Рая. [140] 78. Малый небосвод – небо Луны, ближайшее к Земле, которая недвижно покоится в центре вселенной. [141] 94. Благодатная жена – то есть дева Мария. [142] 96. Судью – то есть бога. [143] 97. Лючия – христианская святая, аллегорически – «просвещающая благодать» (лат. lux – свет). [144] ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ Врата Ада. – Ничтожные – Ахерон. – Челн Харона19. Надпись на вратах Ада. – По христианской мифологии, ад сотворен триединым божеством: отцом (высшей силой ), сыном (полнотой всезнанья ) и святым духом (первою любовью ), чтобы служить местом казни для падшего Люцифера (А., XXXIV, 121–126). Он создан раньше всего преходящего. Древней его – лишь вечные созданья (небо, земля и ангелы), и он будет существовать вечно. Данте изображает Ад как подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земного шара. Ее склоны опоясаны концентрическими уступами, «кругами» Ада. [145] 37. И с ними ангелов дурная стая – которая, когда восстал Люцифер, не примкнула ни к нему, ни к богу. [146] 42. Иначе возгордилась бы вина. – Грешники, казнимые в глубинах Ада, возгордились бы своим злодейством, видя рядом с собой этих ничтожных. [147] 5960. Кто от великой доли отрекся в малодушии своем – папа Целестин V, который был избран в 1294 г., семидесяти девяти лет от роду, и через пять месяцев, тяготясь своим саном, сложил его с себя. [148] 77. Ахерон. – Реки античной преисподней протекают и в Дантовом Аду. В сущности, это один поток, образованный слезами Критского Старца и проникающий в недра земли (А., XIV, 94142). Сначала он является как Ахерон (греч.: – река скорби) и опоясывает первый круг Ада. Затем, стекая вниз, он образует болото Стикса (греч.: – ненавистный), иначе – Стигийское болото, в котором казнятся гневные (А, VII, 100–116) и которое омывает стены города Дита, окаймляющие пропасть нижнего Ада (А., VIII, 67–75). Еще ниже он становится Флегетоном (греч.: – жгучий), кольцеобразной рекой кипящей крови, в которую погружены насильники против ближнего (А, XII, 46–54). Потом, в виде кровавого ручья, продолжающего называться Флегетоном (А., XIV, 134 и прим.), он пересекает лес самоубийц и пустыню, где падает огненный дождь (А., XIV, 76–90, XV, 112). Отсюда шумным водопадом он свергается вглубь (А., XVI, 1–3; 94105), чтобы в центре земли превратиться в ледяное озеро Коцит (греч.: – плач) (XIV, 119; XXXI, 123; XXXII, 22–30; XXXIV, 52). Лету (греч.: – забвение) Данте помещает в Земном Раю (А., XIV, 136–138), откуда ее воды также стекают к центру земли (А., XXXIV, 127–132; Ч, I, 41), унося с собою память о грехах; к ней он добавляет Эвною (Ч., XXVIII, 121–133; XXXIII, 112–114). [149] 83. Старик – Харон, перевозчик душ античной преисподней (Эн., VI, 295–330). В Дантовом Аду он превратился в беса (ст. 109). [150] 92. Челнок полегче должен ты найти. – Харон, зная, что Данте не осужден на адские муки, считает, что ему подобает место в том легком челне, в котором ангел перевозит души к подножию Чистилища (Ч., II, 13–51). [151] ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ Круг первый (Лимб). – Некрещеные младенцы и добродетельные нехристиане2. И я очнулся вдруг. – В миг пробуждения Данте оказывается уже по ту сторону Ахерона. [152] 24. Вниз, в первый круг, идущий вкруг жерла. – Это Лимб (лат. limbus – кайма) католического ада, где, по церковному учению, пребывали души ветхозаветных праведников (см. прим. 52–54) и куда отправляются души младенцев, умерших без крещения. Сюда же Данте помещает души всех добродетельных нехристиан. [153] 5254. Я был здесь внове… – Вергилий, умерший в 19 г. до н. э., вступил в Лимб примерно за полвека до того дня, когда, по христианской легенде, Христос (Властитель ), между своей смертью и воскресением, сошел в ад и вывел оттуда ветхозаветных святых в рай, открывшийся для людей только с искуплением первородного греха. [154] 55. Первый прародитель – Адам. [155] 59. Израиль – патриарх Яков. Отец его – Исаак. [156] 60. Великой взятая ценой. – Чтобы жениться на Рахили, Яков служил ее отцу 14 лет (Библия). [157] 68. От места сна – то есть от того места, где Данте очнулся (ст. 1–6). [158] 8690. Возвращающегося в Лимб Вергилия приветствуют четыре поэта древности, которых Данте выделяет как величайших: грек Гомер , которого он не мог читать, потому что греческого языка не знал, а латинских переводов Гомеровых поэм еще не было, но которого он признавал «превысшим из певцов» (ср. Ч., XXII, 101–102), и римляне: Гораций (658 гг. до н. э.), отмечаемый им как автор сатир; Овидий (43 г. до н. э. – 17 г. н. э.) и Лукан (39–65 гг. н. э.). «Метаморфозы» Овидия, равно как «Фарсалия» Лукана, служили автору «Божественной Комедии» немаловажными источниками. [159] 121144. Взорам Данте предстают знаменитые троянцы, легендарные предки римской славы: Электра , дочь Атланта, возлюбленная Зевса, мать Дардана, основателя Трои; Гектор , троянский герой, и Эней; Пентесилея , царица амазонок, союзница Трои, сраженная Ахиллом. Рядом с ними – прославленные римляне: Гай Юлий Цезарь (10044 гг. до н. э.), полководец и государственный деятель, заложивший основы единовластия; род его, по легендарной генеалогии, восходил к Иулу (Асканию), сыну Энея от Креусы; Камилла , воительница «Энеиды»; Лавина (Лавиния), взятая в жены Энеем, и ее отец , царь Лация, Латин, герои «Энеиды»; Луций Юний Брут , первый римский консул (вместе с Луцием Тарквинием Коллатином, 509 г. до н. э.), низвергший последнего из римских царей, Тарквиния Гордого; дочь Цезаря , Юлия, жена Помпея; супруга Коллатина , Лукреция, обесчещенная царским сыном Секстом Тарквинием и покончившая с собой, что повело к свержению царской власти; Корнелия, дочь Сципиона Африканского, мать Тиберия и Гая Гракхов , народных трибунов II в. до н. э.; Марция, жена Катона Утического, последнего защитника республиканского Рима (Ч., I, 78–90). Поодаль от них – мусульманин Саладин , (1138–1193), султан Египта и Сирии, прославленный и на христианском Западе своим душевным благородством. Отдельным кругом сидят мудрецы и поэты: учитель тех, кто знает – Аристотель (IV в. до. н. э.), почитавшийся в средние века как величайший из ученых; Сократ (469–399 гг. до н. э.), Платон (427–347 гг. до н. э.); Демокрит (ок. 460–370 гг. до н. э.), полагавший, что мир возник в силу случайного сочетания атомов; философы VII–III вв. до н. э. – Диоген, Фалес, Анаксагор, Зенон, Эмпедокл, Гераклит; Диоскорид – врач I в., писавший о целебных свойствах растений; Луций Анней Сенека , римский философ I в.; мифические поэты Греции – Орфей , своим пением чаровавший зверей и камни, и Лин; Марк Туллий Цицерон – римский оратор и философ I в. до н. э.; геометр Эвклид (III в. до н. э.); астроном и географ Птолемей (II в.), чьей системе мира следовал и Данте; античные врачи Гиппократ (V–IV вв. до н. э.) и Голен (II в.), философ и врач XI в. Авиценна (ИбнСина); Аверроис (Авероэс, ИбнРошд), арабский философ XII в., знаменитый толкователь Аристотеля. В дальнейшем Данте упоминает еще некоторых обитателей Лимба (см. Ч., XXII, 13–14; 97114). [160] ПЕСНЬ ПЯТАЯ Круг второй – Минос – Сладострастники4. Минос – в греческой мифологии – справедливый царьзаконодатель Крита, ставший после смерти одним из трех судей загробного мира (вместе с Эаком и Радамантом). В Дантовом Аду, превращенный в беса, он назначает грешникам степень наказания. [161] 34. Вдоль скалы – на которой восседает Минос. [162] 6162. Нежной страсти горестная жрица – карфагенская царица Дидона, вдова Сихея, заколовшая себя, когда ее покинул Эней (Эн., I и IV). [163] 7374. Я бы хотел ответа от этих двух. – Это и в Аду неразлучные тени Франчески да Римини и Па́оло Малатеста. Франческа, дочь Гвидо да Полента, синьора Равенны (А., XXVII, 40–42), была около 1275 г. выдана замуж за Джанчотто Малатеста, отец которого был вождем риминийских гвельфов (см. прим. А., XXVII, 46), некрасивого и хромого. Когда Джанчотто узнал, что она вступила в любовную связь с его младшим братом Паоло, он убил обоих. Это случилось между 1283 и 1286 гг. Последний свой приют изгнанник Данте нашел у племянника Франчески, Гвидо Новелло да Полента, синьора Равенны. [164] 81. Если Тот позволит – то есть если позволит бог. [165] 9799. Я родилась над теми берегами – в Равенне. [166] 107. Каина – первый пояс девятого круга Ада, где казнятся убившие или предавшие своих родных (см. прим. А., XXXII, 16). [167] 128. О Ланчелоте сладостный рассказ – французский прозаический роман XIII в. о рыцаре Круглого Стола Ланчелоте (Ланселоте) и о любви его к королеве Джиневре (Женьевре), жене короля Артура. Роман этот имелся и в итальянском переводе. [168] 137. Галеот – рыцарь, способствовавший сближению Ланчелота с Джиневрой. Он уговорил прекрасную королеву поцеловать застенчивого героя. [169] ПЕСНЬ ШЕСТАЯ Круг третий. – Цербер. – Чревоугодники13. Цербер – в греческой мифологии – трехглавый пес, охраняющий вход в Аид (Эн., VI, 417–423). У Данте это трехглавое чудовище, бес (ст. 31) с чертами пса и человека (борода, руки), терзающий чревоугодников. [170] 49. Твой город – Флоренция. [171] 52. Чакко. – «Жил во Флоренции некто, всеми прозываемый Чакко, человек, прожорливее которого не бывало никогда», – так рассказывает о нем Боккаччо в посвященной ему новелле «Декамерона» (IX, 8). [172] 6472. И он ответил… – Чакко предсказывает ближайшие судьбы Флоренции, раздираемой враждою между Черными гвельфами (сторонниками римской курии), возглавляемыми знатным родом Донати, и Белыми гвельфами, с родом Черки во главе (отстаивавшими независимость Флоренции против посягательств папы Бонифация VIII). После долгих ссор прольется кровь – при стычке Белых и Черных на празднике 1 мая 1300 г. Власть достанется лесным (так названы Белые, потому что Черки были выходцы из деревни), а многих Черных постигнет изгнанье (летом 1301 г., после раскрытия их заговора в церкви СантаТринита́). Когда же солнце трижды лик свой явит , то есть в 1302 г., они (Белые) падут, а тем (Черным) поможет встать рука того (папы Бонифация VIII), кто в наши дни (в 1300 г.) лукавит , ведя себя двулично. Они (Черные) придавят их (Белых) и восторжествуют на долгий срок (многие Белые, в том числе Данте, подвергнутся изгнанию. См. – прим. Р., XVII, 48). [173] 73. Есть двое праведных, но им не внемлют. – Нет никаких данных, чтобы установить, имел ли здесь Данте в виду определенных лиц. Быть может, он просто хотел сказать, что во Флоренции не насчитать даже трех праведников, которые, по библейскому выражению, вошедшему в поговорку, одни спаслись бы от божьего гнева. [174] 7987. Данте спрашивает о судьбе некоторых славнейших флорентийцев, как гвельфов, так и гибеллинов (см. прим. А., X, 32–51). [175] 95. До трубы архангела – то есть до Страшного суда, который, по церковным представлениям, ожидает живых и мертвых. [176] 9699. Смысл: «Когда придет Христос судить живых и мертвых (враждебный к грешным судия), каждая из душ поспешит к могиле, где погребено ее тело, войдет в него и услышит свой приговор». [177] 106111. Наукой сказано твоей – то есть в трудах Аристотеля, на «Этику» и «Физику» которого Вергилий ссылается и в других случаях (А., XI, 80, 101). Чем существо совершеннее, тем оно восприимчивее к наслаждению и к страданию. Душа без тела менее совершенна, чем соединенная с ним. Поэтому после воскресения мертвых грешники, хоть им «к прямому совершенству не прийти» , будут испытывать еще большие страдания в Аду, а праведники – еще большее блаженство в Раю (Р., XIV, 43–60). [178] 115. Плутос – бог богатства в греческой мифологии. Здесь это звероподобный демон, охраняющий доступ в четвертый круг Ада, где казнятся скупцы и расточители. [179] ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ Круг четвертый. – Плутос. – Скупцы и расточители. – Круг пятый. – Стигийское болото. – Гневные1. Рарè Satàn, papè Satàn aleppe! – Как видно из ст. 312, Вергилию понятен смысл этих загадочных слов: они выражают ярость и угрозу. [180] 11. Михаил – архангел, который в «Апокалипсисе» свергает с неба сатану и его войско. [181] 22. Харибда – водоворот, образованный встречными течениями в Мессинском проливе, у сицилийского берега, против Сциллы (мыс Шильо) на итальянском берегу. [182] 39. От нас налево. – В левом полукружии движутся скупцы, в правом – расточители. [183] 42. Что в меру не умели делать трат – потому что одни были скупы, а другие – расточительны. [184] 45. Наперекор друг другу нечестивы – то есть виновные в противоположных грехах, (ср. Ч., XXII, 31–54.) [185] 57. С плешью гладкой – потому что, по итальянской поговорке, «промотались до последнего волоса» (ср. Ч., XXII, 46–48). [186] 95. Первенцы творенья – ангелы. [187] 96. Крутит свой шар. – Фортуна иногда изображалась держащей шар или колесо, символ переменчивости судьбы. [188] 6196. Фортуна – римская богиня судьбы и случая. Вергилий попрекает Данте за его ошибочную мысль, будто Фортуна держит «в когтях своих» счастье всех племен (ст. 68–69), и поясняет, что она только исполнительница справедливой божьей воли. Бог, воздвигнув тверди, создал им вождей (ст. 74). Это ангелыдвижители, «умы», «разумы» (см. прим. Р., II, 129), управляющие вращением небесных сфер и сообщающие им силу влияния на земную жизнь. Каждой части , то есть каждой из небесных сфер, сияет своя часть (ст. 75), то есть свой ангельский круг (Р., XXVIII, 13–78). Мирским же блеском (ст. 77), то есть земным счастьем, распоряжается Фортуна; здесь она полновластна, как в прочих царствах , то есть в небесных сферах, остальные боги , то есть ангелыдвижители. [189] 98. Склонились звезды… – Когда поэты двинулись в путь (А., I, 136; II, 1–6), звезды поднимались от востока к середине неба. Теперь они начали клониться к западу, то есть миновала полночь. [190] 107. Стигийское болото – см. прим. А., III, 77. [191] 118. Есть также люди. – Это те, кто особенно глубоко таил в себе гнев и ненависть и как бы задыхался от них. [192] ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ Круг пятый (окончание). – Флегий. – Город Дит4. Два зажженных огонька – сигнал о прибытии двух душ, на который с башни города Дита (по ту сторону Стигийского болота) подается ответный сигнал, вслед за чем оттуда на челне отплывает перевозчик. [193] 19. Флегий – по греческому мифу, царь лапифов, сын Арея и смертной. В гневе на Аполлона, обольстившего его дочь, он сжег Дельфийский храм и был ввергнут в Аид. У Данте он – злобный страж пятого круга, перевозчик душ через Стигийское болото, где казнятся гневные. [194] 32. Мне встретился один. – Это богатый флорентийский рыцарь, сторонник Черных, Филиппе дельи Адимари, отличавшийся надменностью и бешеным нравом. Он прозван был Ардженти (ст. 61), то есть «серебряный», потому что подковывал своего коня серебром. Есть основания считать, что существовала резкая личная вражда между ним и Данте. [195] 68. Город Дит. – Дит (Dis) – латинское имя Аида, или Плутона, властителя преисподней, сына Кроноса и Реи, брата Зевса и Посейдона. Данте называет так Люцифера (лат. Lucifer – Светоносец, древнерусск. – Денница), верховного дьявола, царя Ада (А., XI, 64; XII, 39; XXXIV, 20). Его имя носит и адский город , окруженный Стигийским болотом, то есть области Ада, лежащие внутри крепостной стены и носящие общее название нижнего Ада (ст. 75). [196] 8283. Много сот дождем ниспавших с неба – то есть многие сотни дьяволов, которые когдато были ангелами, но вместе с Люцифером восстали на бога и низвержены в ад. [197] 125126. Так было и пред внешними вратами… – По церковной легенде, когда Христос сходил в ад, чтобы вывести оттуда души праведных (А., IV, 52–63), дьяволы преградили ему путь, но он разбил адские врата, которые с тех пор остались открытыми. [198] ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ У ворот Дита – Фурии – Посол небес – Круг шестой – Еретики13. Смысл: «Видя, что при его возвращении я побледнел от страха, Вергилий поборол собственную бледность». [199] 8. Защитница – Беатриче. [200] 1718. Спускаются ли с первой той ступени – то есть из Лимба. [201] 23. Эрихто – легендарная фессалийская волшебница, воскрешавшая мертвых и заставлявшая их предсказывать будущее (Лукан, «Фарсалия», VI, 507–830). [202] 27. Иудин предел – Джудекка, центральный круг ледяного озера Коцит, в самой глубине Ада (А., XXXIV), где казнится Иуда. [203] 29. От горней сферы, связь миров кружащей – от девятого неба, или Перводвигателя (см. прим. Р., I, 76–77). [204] 3848. Три Фурии (греч. – Эринии , ст. 45), то есть Тисифона («мстящая за убийство»), Мегера («ненавистница»), Алекто («неуемная»), в античной мифологии – богини проклятия, мести и кары. Они обитали в преисподней, где царит властительница вечных слез (ст. 44) Прозерпина (греч. – Персефона) – супруга Плутона. [205] 52. Медуза – по греческому мифу, одна из трех сестерГоргон , змееволосая дева, при виде которой люди и звери каменели . Персей отрубил ей голову, и «лик Горгоны» (ст. 56) стал в его руках страшным оружием против врагов, превращая их в камень. [206] 5354. Напрасно Тезеевых мы не отмстили дел. – Тезей со своим другом Пирифоем спускался в преисподнюю, чтобы похитить для него Персефону. Эринии жалеют, что в свое время не погубили его; тогда у смертных пропала бы охота проникать в подземный мир. [207] 85. Посла небес – то есть ангела. [208] 9899. Ваш Цербер… – Труднейшим из двенадцати подвигов Геракла было похищение Цербера. От Геракловой цепи у Цербера до сих пор потерта морда . [209] 112. Арль – город в Провансе, на левом берегу Роны ; близ него расположено знаменитое в средние века кладбище со множеством римских и христианских могил. [210] 113. Пола – город на южной оконечности Истрии, омываемой с востока заливом Карнаро (Кварнеро). В его окрестностях также существовал обширный римский некрополь. [211] ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ Круг шестой (продолжение)11. Иосафат – название долины, где, по церковным представлениям, произойдет Страшный суд. [212] 14. Эпикур – греческий философматериалист (341–270 гг. до н. э.), отрицавший бессмертие души. В средние века «эпикурейцами» называли всех вообще атеистов. [213] 17. И утоленье помысла другого – то есть желания встретить в Аду могучий дух Фаринаты дельи Уберти (см. А., VI, 79–84). [214] 21. Заповедь твою. – Данте запомнил ответ Вергилия: «Ты увидишь сам», который тот ему дал, приближаясь к Ахерону (А., III, 70–81). [215] 3251. Фарината дельи Уберти (род. в нач. XIII в.) – глава флорентийских гибеллинов (то есть сторонников империи). Принадлежа к враждебной гибеллинам партии гвельфов (которая в борьбе с притязаниями империи опиралась на папство), предки Данте два раза потерпели разгром (ст. 48). Первым разгромом гвельфов было их изгнание гибеллинами, при содействии конницы императора Фридриха II (см. ст. 119 и прим.), в 1248 г. их дома и башни были снесены. Спустя три года они вернулись во Флоренцию и в 1258 г. в свой черед изгнали властолюбивого Фаринату и его сторонников. Те заручились помощью Сьены (Сиены) и неаполитанского короля Манфреда (Ч., III, 112–113 и прим.) и в 1260 г. близ замка Монтаперти на реке Арбии (ст. 86) нанесли жестокое поражение флорентийским гвельфам и их союзникам. Гвельфам пришлось вторично покинуть Флоренцию. В 1264 г. Фарината умер. В 1266 г., когда Манфред пал при Беневенто, усилившиеся гвельфы возвратились снова. Вслед за тем они прибегли к покровительству Карла I Анжуйского (см. прим. Ч., VII, 112–114), и когда тот выслал им в помощь военную силу, гибеллины, в ночь на пасху 1267 г., навсегда покинули Флоренцию. Особенно сурово отнеслась гвельфская Флоренция к роду Уберти. На месте их срытых домов была устроена площадь; амнистия, предоставлявшаяся другим изгнанникам, никогда на них не распространялась, и те Уберти, которые попадали в руки республики, платились жизнью. Наконец, в 1283 суд инквизиции посмертно осудил «подражателя Эпикура» Фаринату как еретика. [216] 5272. Новый призрак – другой эпикуреец, Кавальканте Кавальканти, гвельф, отец Гвидо Кавальканти (ок. 1259–1300), философа и поэта (Ч., XI, 97–98), ближайшего друга Данте. Он удивлен, не видя своего сына рядом с Данте, и тот ему объясняет, что приведен сюда Вергилием, творений которого Гвидо «не чтил» . Поняв это слово в том смысле, что Гвидо уже нет на свете (на самом деле Гвидо умер несколько месяцев спустя), и посвоему истолковав молчание задумавшегося Данте, он в отчаянии падает в свою раскаленную могилу. [217] 80. Лик госпожи, чью волю здесь творят. – В античных верованиях Персефона (см. прим. А., IX, 38–48), наравне с Гекатой и Артемидой, считалась богиней Луны. Стихи 79–81 означают: «Не пройдет и пятидесяти месяцев, как ты сам поймешь, легко ли изгнаннику вернуться на родину». Действительно, к указанному времени, то есть к июню 1304 г., Данте утратил надежду на возвращение и порвал со своими товарищами по изгнанию. [218] 86. Арбия – см. прим. 32–51. [219] 9193. Зато я был один… – После победы при Монтаперти вожди тосканских гибеллинов требовали разрушения Флоренции. Этого не допустил Фарината, заявив, что он, пока жив, один против всех с мечом в руке выступит на ее защиту. [220] 9799. Как я сужу… – Слова Фаринаты (ст. 79–81), как и предсказания Чакко (А., VI, 64–72), убедили Данте, что грешники в Аду обладают даром предвидения, между тем, судя по вопросу Кавальканте (ст. 68–69), они не знают того, что происходит на земле в настоящее время. [221] 107. Едва замкнется дверь времен грядущих. – То есть: «Когда наступит Страшный суд и время сменится вечностью». [222] 119. Федерик второй – Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250), германский император, король Неаполя и Сицилии, сын Генриха VI и Констанции Сицилийской (см. прим. Р., III, 118–120). Его непримиримая вражда к папству, трижды приведшая его к отлучению от церкви, покровительство арабским и еврейским ученым и свободный образ жизни создали ему среди современников славу опасного еретика. [223] 120. Кардинал – Оттавиано дельи Убальдини (умер в 1273 г.), ревностный гибеллин, настолько влиятельный, что если говорили просто «кардинал», то имели в виду именно его. Сохранилась его фраза: «Если есть душа, то я погубил ее ради гибеллинов». [224] 122. В тревоге от угроз – то есть встревоженный предсказанием Фаринаты (ст. 79–81). [225] 130132. Смысл: «Когда ты вступишь в благодатный свет прекрасных глаз Беатриче , она даст тебе увидеть тень Каччагвиды, который откроет тебе твою грядущую судьбу» (Р., XVII). [226] ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ Круг шестой (окончание)89. Папа Анастасий II (496–498), стремившийся устранить раскол между западной и восточной церковью и благосклонно принявшие константинопольского легата Фотина , прослыл еретиком. [227] 50. Каорса – город Кагор (франц. Cahors) в Южной Франции, славившийся в средние века своими ростовщиками (лихоимцами). В Италии слово «каорсинец» означало «ростовщик». Содом – по библейской легенде, город, спаленный небесным огнем за противоестественный разврат его обитателей (содомитов). [228] 64. Дит – Люцифер (см. прим. А., VIII, 68). [229] 1666. Вергилий объясняет своему спутнику, что в пропасти нижнего Ада (А., VIII, 75), над которой они стоят, тремя уступами, как три ступени (ст. 17), расположены три круга (ст. 18) – седьмой, восьмой и девятый. В этих кругах карается злоба , орудующая либо силой (насильем), либо обманом (ст. 22–24). Насилье менее гнусно, чем обман (ст. 25–27), и наказуется в ближайшем, седьмом круге , разделенном на три концентрических пояса, лежащих на одном уровне (ст. 28–33). В первом поясе (ст. 34–39) карается насилие над ближним (убийство, злостное ранение) и над его достоянием (грабеж, поджог, притеснения). Во втором поясе (ст. 40–45) – насилие над собою (самоубийство) и над своим достоянием (игра и мотовство, то есть бессмысленное истребление своего имущества, в отличие от расточительности, то есть любви к чрезмерным тратам, караемой в четвертом круге). В третьем поясе (ст. 46–51) – насилие, направленное против божества (богохульство) и против созданного им порядка (против естества – содомия, и против естества и искусства – лихоимство). Обман , смотря по тому, был ли обманутый связан с обманщиком узами доверия или нет (ст. 52–54), карается в восьмом или же в девятом круге. В восьмом круге (ст. 55–60), состоящем из десяти Злых Щелей, или рвов, караются обманувшие недоверившихся (1 – сводники и обольстители; 2 – льстецы; 3 – святокупцы; 4 – прорицатели; 5 – мздоимцы; 6 – лицемеры; 7 – воры; 8 – лукавые советчики; 9 – зачинщики раздора; 10 – поддельщики металлов, людей, денег и слов). В девятом круге , на самом дне Ада, образованном ледяным озером Коцит, казнятся обманувшие доверившихся , то есть предатели (ст. 61–66). Здесь – четыре пояса: Каи́на (предатели родных), Антенора (предатели родины), Толомея (предатели друзей), Джудекка (предатели благодетелей), а посередине, в центре вселенной, вмерзший в льдину Дит (Люцифер) терзает в трех своих пастях предателей величества земного и небесного.
|